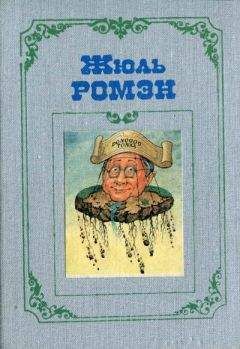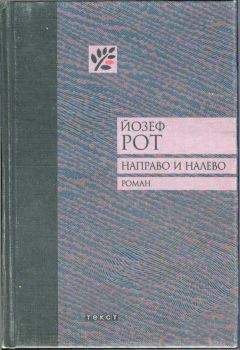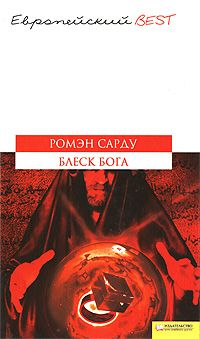Вахтер, которого Дени вызвал звонком, явился отворить дверь. Король и королева уходят.
Явление четвертоеДени, вахтер; потом Дени, Фереоль; в конце явления, — вахтер и Люзак.
Вскоре после ухода королевской четы вахтер возвращается в дверь, которую он оставил открытой.
Вахтер. Господин Фереоль дожидается.
Дени. Попросите его. И чтобы нам никто не мешал. (Входит Фереоль. Вахтер затворяет за ним дверь. Дени идет навстречу Фереолю, подает ему руку). Здравствуй, Фереоль.
Фереоль, просто. Здравствуй, Дени.
Дени, непринужденно и сердечно. Я рад, что ты пришел. Я считал, что бывают минуты, когда такие люди, как мы с тобой, должны объясниться. И ты, по-видимому, тоже так считал, раз пришел. Еще недели нет, как мы с тобой завтракали в Тиволи. Многое случилось за это время. Как поживает твоя жена?
Фереоль. Спасибо, хорошо, а Мадлена?
Дени. Тоже. (Пауза. Печально, но без горечи). Ты не захотел пообещать мне ни содействия, ни даже нейтралитета. Но я все-таки не ждал, что ты поведешь против меня эту неискупимую войну.
Фереоль, мягко. Неискупимую войну?.. Хорошо, пусть так. Но она ведется не против тебя, и не я ее веду.
Дени. Вот как!
Фереоль. Не тебе бы я стал объяснять, что в таком движении, как это, никто не властен. Ни в его возникновении, ни в его развитии.
Дени. Я помню некоторый план действий, который ты мне излагал накануне завтрака в Тиволи и который осуществляется пункт за пунктом.
Фереоль. Во всяком случае, ты столько же виновник событий, сколько и я.
Дени, пожимая плечами, но не сердясь. Да, это я подписывал приказы о забастовке и организовал восстания.
Фереоль, рассудительно. Ты забываешь главное. Видя тебя у власти, массы действительно подумали, что ты подаешь им сигнал к революции. Представь себя на их месте.
Дени, немного горячее. А когда я им сказал, что они заблуждаются, что их обманывают?
Фереоль. Это был не твой обычный голос. Его никто не узнавал. И потом, было уже поздно.
Дени, мягко. Если бы тут были только народ и я, то недоразумение рассеялось бы на второй день, ты это прекрасно знаешь.
Фереоль, все так же спокойно. О, я не стану отрицать роли кое-кого из наших. Я, по крайней мере, без всякого удовольствия исполнил то, что считал прямым своим долгом. Мое дело было не судить тебя, не разгадывать твои сокровенные намерения. Мое дело было помочь тебе, как я обещал. (Дени делает жест, как бы говоря: «Довольно насмешек». Фереоль продолжает, настаивая на своем). Я видел, что ты не рассчитал своих сил, что ты подвергся слишком сильным искушениям, что тебе грозит опасность, и я старался отстранить тебя от опасности или отстранить ее от тебя, старался воздвигнуть преграды между ней и тобой, затруднить для тебя поступки, недостойные тебя. Ты меня понимаешь?
Дени. Мне хотелось бы знать, насколько ты искренен.
Фереоль, не повышая тона. Вполне. Я довольно часто говорил тебе, как я боюсь нашей личной слабости. Я не спокоен, когда я знаю, что идеал во власти отдельного человека. (С большой простотой и убедительностью). Я тоже вполне могу себе представить, что принимаю власть немного необдуманно, и вот меня окружают, меня теснят новые обстоятельства, и мои прежние мысли, моя прежняя жизнь видятся мне уже вдали, странные, отвергнутые, не мной, а самой перспективой и освещением… как если бы сын крестьянина, став мэтрдотелем, смотрел на пашни с террасы казино. В такую минуту нам снаружи могут оказать услугу, нам могут помочь опомниться. Например, что, если к этому человеку придет его мать, которую он должен бы прогнать из казино, как нищенку?..
Дени, тронут, он задумывается. Потом голосом, в котором сквозит внутренняя борьба. Мог ли ты совершенно искренне ожидать чего бы то ни было хорошего от твоего образа действий?
Фереоль. Ну, конечно! (Мягко). Я и теперь еще ожидаю. (Дени смотрит на него. Фереоль выдерживает его взгляд). Ты решительно подавил нашу первую революционную вспышку. Но ничего непоправимого не произошло. У нас не такая нежная кожа. Несколько пинков в счет не идут. Да наши люди и не успели толком разобрать, кто их колотил. Я берусь объяснить им, что иначе ты поступить не мог, что сперва ты должен закрепиться на своей позиции, что для того, чтобы сосредоточить в своих руках всю власть, для того, чтобы иметь возможность распоряжаться государством, тебе необходимо усыпить подозрения, снискать доверие всех тех, кто в этом государстве хозяйничает или кто его поддерживает; словом, что прежде, нежели применить диктатуру… (Дени делает резкое движение). Что?.. Ты что-то хотел сказать?
Дени. Нет, нет.
Фереоль, продолжая. …Надо предварительно диктатуру создать… (Глядя на Дени). Мне казалось, будто ты хотел что-то сказать.
Дени. Нет.
Фереоль, вкрадчиво. Впрочем, ты, может быть, именно этого и желал. Или стремился к этому, хоть и не имел возможности в достаточной мере это осознать. И потом, ведь мы, слава богу, не психологи. Мы отлично знаем, что в мозгу происходит все, что угодно, и не придаем этому ни малейшего значения. Раз революцию делаешь ты, значит, ты ее и желал. А так как ты не любишь планов, положись на историков; они тебе сфабрикуют великолепный план.
Дени слушал с очень оживленным и очень подвижным взглядом. Чувствуется, что в голове у него проносятся всякого рода возможности.
Дени, тихо, с дрожью в голосе. Но в таком случае… что же ты предлагаешь?
Фереоль, настойчиво, убедительно, осторожно. Это очень просто. Я говорил о диктатуре. Мне не так видно, как тебе, на каком расстоянии ты сейчас находишься от цели… Но едва ли так уж далеко. Мы, со своей стороны, тоже не теряли времени даром. Дальнейшее… зависит от умения. Как я тебе уже сказал, народ не станет придираться. Если ты непременно хочешь объяснить другим, почему ты становишься во главе революции, после того как вначале как будто боролся с ней, у тебя не будет недостатка в правдоподобных и… утешительных доводах: например, что нельзя противиться исторической неизбежности; что лучше ею овладеть, направить ее в спокойное русло; или же ты можешь им сказать, что это меньшее из зол. Вот довод, который всегда годится. (Смеется). Любое зло предпочтительнее худшего зла… которое остается только придумать. (Он умолкает. Дени расхаживает взад и вперед. Помолчав.) Итак?
Дени, останавливается, бледный, прерывисто дыша. Нет. (С оттенком сожаления). Это невозможно.
Он отирает вспотевший лоб.
Фереоль. Тебя страшит поражение? Более благоприятного случая нам никогда не представится… Настоящее положение граничит с чудом.
Дени, более твердо. Нет.
Фереоль. Ты чувствуешь себя неудобно по отношению к королю и к королеве?
Дени. Конечно, я счел бы себя довольно мерзкой личностью.
Фереоль. И тут все дело в манере. (Улыбаясь). Можно отрешить королеву от должности, целуя ей руку.
Дени. Есть другие причины.
Фереоль. Какие? Самолюбие? Ты боишься показаться двуличным? Но ты же сам понимаешь…
Дени. Нет, нет. Ты не догадываешься. Ты не можешь догадаться… Да это почти и невозможно объяснить.
Фереоль, меняя тон. Невозможно… сознаться в этом?
Дени, живо. Да нет же!.. Невозможно дать другим почувствовать это с той же очевидностью, с той же непреложностью, с какой это чувствую я. (Взволнованно). Знаешь, Фереоль, мне вот сейчас вдруг стало ясно, ясно до невыносимой боли, что ты совершенно не в состоянии понять того, что я делал всю эту неделю. И какие бы доводы я тебе ни приводил, какие бы ни давал объяснения, для тебя они будут лишены всякой цены, тебе они покажутся пустым звуком. Фереоль, хочешь услышать жестокую правду: мы с тобой друзья детства, у нас с тобой двадцать лет почти общей мысли. И вот, если бы сюда вошел король, он понял бы меня с двух слов. А ты… ты уже готов пожать плечами. (Он умолкает, потом мужественно продолжает). Видишь ли, Фереоль, в таком месте, как это, имеются три-четыре квадратных метра, как бы площадка, и только тот, кто на ней стоял, кто чувствовал в иные мгновения, как она у него дрожит под ногами, имеет право говорить. (Берет со стола брошюру, потом кладет ее на место). Указатель, обыкновенный указатель поездов, ты не знаешь, во что это может вдруг превратиться, когда находишься здесь. (Отвечая на легкое движение Фереоля). Будь спокоен, я не брежу. (С напряжением и силой, которые все время возрастают, не переходя в декламацию). Фереоль, ты не знаешь, что значит вдруг оказаться в средоточии, увидеть, что ты тут, ты, и никто другой, на площадке. Тут уж не спрашивается, кто ты такой! Все захвачено настоящим, настоящим, которое тысячью игл вонзается в тебя со всех сторон. Едва ты очутился здесь, то не успел ты еще оглядеться, как чувствуешь, что твое тело опутано тысячами сцеплений, тысячами связей, что какая-то кишащая громада движется на тебя отовсюду, что она алчно овладевает тобой и что всей твоей мысли не хватит на это. (Пауза). И ты не знаешь также, Фереоль, что такое крик о помощи, кидаемый человеческим обществом. Он несется издали, отовсюду, сквозь людскую толщу, и ударяет тебя под самое сердце, когда ты вождь. (Кладя руку на указатель). Поезда должны ходить. (Раскрывая наугад). Вот этот город получит пищу. Скорый номер сто двенадцать придет по расписанию и доставит почту. Я буду охранять мосты, стрелки, семафоры. (Он отталкивает брошюру). Сегодня вечером улицы будут освещены. Даже театры должны быть открыты в обычный час, и их фасады иллюминованы. Оркестры должны играть. Новые стачки? Новые остановки заводов? Саботажи, опрокинутые трамваи, столкновения, убитые? Каждую минуту новая телеграмма на моем столе, ворох телеграмм, залп дурных известий, отчаяннее прежнего, еще толчок, еще треск? Все трещит? Ну, а я, вот здесь, напрягаю последние силы, чтобы не дать рухнуть, чтобы все держалось, чтобы еще раз и еще раз не поддалось. (Он молчит, смотрит на Фереоля и ровным голосом). Вот. Просто, как биение сердца. И безостановочно. (Помолчав, говорит устало и мягко). Ты меня понимаешь, Фереоль, хоть сколько-нибудь?