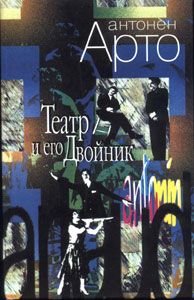Нужно покончить с предрассудком относительно письменных текстов и письменной поэзии. Письменная поэзия годится на один раз, а затем ее следует уничтожить. Пусть мертвые поэты уступят место другим. Во всяком случае, нам следует понять, что именно наше преклонение перед тем, что уже сделано, – каким бы прекрасным и реальным оно ни было, – наводит на нас оцепенение, заставляет нас замереть и мешает нам войти в соприкосновение с силой, пребывающей внизу, с силой, называемой мыслящей энергией, жизненной силой, предопределенностью перемен, менструациями луны или чем угодно. За поэзией текстов стоит просто поэзия, без формы и без текста. И подобно тому, как истощается эффективность масок, применяющихся в магических операциях некоторых племен, – после чего эти маски годятся лишь на то, чтобы сдать их в музеи, – точно так же истощается и поэтическая действенность текста, поэзия же и действенность театра относится к числу тех, что истощаются наименее быстро, поскольку она допускает действие того, что выражается в жесте и произношении, – того, что никогда не воспроизводится дважды.
Речь идет о том, чтобы понять, чего же мы хотим. Если мы все готовы к войне, к чуме, голоду и массовой резне, нам не нужно даже говорить об этом, достаточно, если мы просто будем продолжать. Продолжать вести себя как снобы, толпиться перед тем или другим певцом, тем или другим восхитительным зрелищем, которое не выходит за пределы сферы искусства (а русские балеты даже в моменты высшего своего великолепия никогда не выходили за пределы сферы искусства), перед той или другой выставкой станковой живописи, где то здесь, то там вспыхивают весьма впечатляющие формы, которые, однако же, взяты наобум, без достоверного осознания тех сил, которые они могут привести в движение.
Нужно покончить с этим эмпиризмом, с этой случайностью, с этим индивидуализмом и этой анархией.
Довольно индивидуалистических стихов, от которых гораздо больше выигрывают те, кто их создает, чем те, кто их читает.
Раз и навсегда – довольно уже всех этих проявлений замкнутого, эгоистичного и личностного искусства.
Наша анархия и путаница нашего духа являются лишь функцией от анархии всего прочего, – или, скорее, все прочее есть лишь функция от этой анархии.
Я не из тех, кто верит, будто для того, чтобы театр изменился, должна измениться цивилизация; но я верю, что театр, используемый в своем высшем и возможно более трудном смысле, наделен силой воздействия на вид и формирование вещей: и происходящее на сцене сближение двух страстных проявлений, двух живых очагов, двух нервных магнетизмов – это нечто настолько же полное, настолько истинное, даже настолько предопределяющее, каким в жизни бывает сближение двух эпидерм в позорном соединении, лишенном всякого завтра.
Вот почему я и предлагаю театр жестокости. – В этом маниакальном стремлении все обесценить, – стремлении, которое сегодня свойственно нам всем, – стоит мне только произнести слово "жестокость", как всем начинает казаться, будто я подразумеваю "кровь". Но "театр жестокости " означает трудный и жестокий театр прежде всего для меня самого. В плане же представления речь идет не о той жестокости, которую мы способны проявлять друг к другу, взаимно раздирая на части наши тела, расчленяя наши соответствующие анатомические организмы, или же, подобно ассирийским императорам, отправляя Друг другу с посыльным мешочки с человеческими ушами, носом или аккуратно вырезанными ноздрями, – о нет, речь идет о той гораздо более ужасной и необходимой жестокости, которую могут проявлять по отношению к нам вещи. Мы не свободны. И небо еще может обрушиться нам на голову. И театр создан для того, чтобы научить нас прежде всего этому.
Или же мы окажемся в состоянии, применяя современные и пригодные сейчас методы, вернуться от всего этого к той высшей идее поэзии, поэзии, творимой театром, – идее, стоящей за всеми Мифами, что поведаны великими древними трагиками, окажемся в состоянии еще раз вынести религиозную идею театра, иначе говоря, сумеем без медитации, без ненужного созерцания, без смутных снов прийти к осознанию, равно как и к овладению некоторыми преобладающими силами, некоторыми понятиями, управляющими всем (а поскольку понятия, когда они эффективны, несут в себе свою энергию, нам нужно обнаружить в себе эти энергии, которые в конечном счете создают порядок и поднимают ценность жизни), – или же нам останется только махнуть на себя рукой, оставив все без отклика и без последствия, останется только признать, что мы пригодны теперь лишь для беспорядка, для голода, крови, войны и эпидемий.
Или мы сведем все искусства к некоему центральному отношению и к центральной необходимости, найдя аналогии между жестом, совершаемым в живописи или театре, и жестом, сотворенным раскаленной лавой при извержении вулкана, – или же нам нужно прекратить заниматься живописью, досужими пересудами, перестать писать и вообще делать что бы то ни было.
Я предлагаю вернуться в театре к этой простейшей магической идее, подхваченной современным психоанализом, – идее, согласно которой, чтобы добиться выздоровления больного, нужно заставить его принять внешние очертания того состояния, в которое его желательно привести.
Я предлагаю отказаться от того эмпиризма образов, которые случайно привносятся бессознательным и которые столь же бессознательно вводятся в оборот; их называют поэтическими образами, а, стало быть, образами герметическими, как если бы тот род транса, что несет с собою поэзия, не находил себе отзвука во всей нашей чувственности, во всех нервах, и как если бы поэзия была некой смутной силой, не разнообразящей своих движений.
Я предлагаю вернуться посредством театра к идее физического постижения образов и средств погружения в транс, подобно тому, как китайской медицине были ведомы в человеческой анатомии особые точки, которые можно было уколоть, а уж те, в свою очередь, управляли всем, вплоть до самых тонких функций.
Если кто-нибудь позабыл коммуникативную мощь и магический миметизм жеста, театр может вновь обучить его этому, поскольку жест несет с собою свою силу, в театре же все равно действуют человеческие существа, которые призваны проявлять силу жеста, ими совершаемого.
Заниматься искусством – значит лишить жест его отзвука во всем организме, между тем как этот отзвук, коль скоро жест совершен в надлежащих условиях и с надлежащей силой, склоняет организм, а уж через него – и всю индивидуальность человека, к тому, чтобы принимать отношения, соответствующие совершенному жесту.
Театр – это единственное место в мире и последнее средство в оставшемся нам наборе, которое позволяет прямо пробиться к цельному организму; в период невроза или низкой чувственности, вроде той, в которой мы погрязли сейчас, это средство помогает нам бороться с этой низкой чувственностью физическими способами, которым она не в силах противостоять.
Если музыка воздействует на змей, то это происходит не благодаря возвышенным духовным понятиям, которые она им сообщает, но потому, что змеи длинны, потому что они во всю длину тянутся по земле, потому что тела их касаются земли почти всей своей протяженностью; и музыкальные вибрации, передающиеся земле, достигают змеи как некое весьма изысканное и весьма долгое поглаживание; ну что ж, я предлагаю поступать со зрителями примерно так же, как со змеями, когда тех заклинают, – иначе говоря, через посредство организма заставить их вернуться к самым изысканным понятиям.
Вначале действовать грубыми средствами, которые с течением времени становятся все более изысканными. Эти непосредственные грубые средства с самого начала захватывают внимание зрителя.
Вот почему в "театре жестокости" зритель находится посредине, тогда как зрелище окружает его со всех сторон.
В этом зрелище постоянно его озвучивание: звуки, шумы, крики прежде всего привлекаются ради своих вибрационных свойств, а уж затем – ради того, что они представляют.
В число этих средств, которые становятся все более изысканными, в свой черед вступает и свет. Свет, что создан не только для того, чтобы окрашивать или освещать, свет, несущий с собою свою силу, свое воздействие, свои смутные внушения. А ведь свет зеленой пещеры создает для организма совсем не те же чувственные предрасположенности, что свет просторного ветреного дня.
Вслед за звуком и светом приходит черед действия и динамизма этого действия: именно здесь театр, вовсе не копируя жизнь, вступает в общение, – коль скоро он на это способен, – с чистыми силами. И независимо от того, принимают это или нет, все равно существует оборот речи, называющий "силами" то, что внутри бессознательного порождает заряженные энергией образы, а во внешнем плане приводит к бесцельному преступлению.