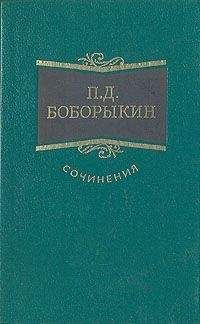Дм. Философова, написанной к пятидесятилетию литературной деятельности Боборыкина. В юбилейной статье Философов на многих страницах обстоятельно рассуждает, отчего он оказался «не нужен среднему русскому читателю», почему чужд и «избранному кругу подлинных ценителей прекрасной литературы», и «широкому кругу читателей» [6]. Юбилейная статья, целиком посвященная анализу и объяснению, отчего ее герой, точнее, написанное им за всю долгую жизнь, ненужно и никчемно, – жестокость особого рода. Но Боборыкину было не привыкать к подобному: его имя давно уже сделалось нарицательным. Трудно было поверить, что все это изобилие романов, пьес, очерков, трактатов и эссе и многого другого написано одним человеком: он сделался именем, обозначающим огромный и при этом слабо различимый в деталях, в тех частях, из которых он сложен, массив текстов. Так, уже помянутый выше Розанов писал по поводу Бальмонта в первом коробе «Опавших листьев»: «Это какой-то
впечатлительный Боборыкин стихотворчества. Да, – знает все языки, владеет всеми ритмами, и так сказать, не имеет в матерьяле сопротивлений для пера, мысли и воображения: по сим качествам он кажется
бесконечным» [7].
Следом Розанов, как легко догадаться по самому построению записи, отказывал Бальмонту в «душе», которая отсутствует за разнообразием нарядов. Но как бы ни судить о наличии или отсутствии души в Бальмонте или Боборыкине, сказанное первым сохраняет свою силу, но основным, господствующим, оказывается второе, пренебрежительное, обиходно-литературное – «боборыкинщина».
В этом отношении к Боборыкину сошлись разнообразные причины:
– во-первых, своеобразная, но более чем понятная, оборотная сторона необычайного расцвета русской литературы, ставшей одной из основных европейских (а в контексте времени, следовательно, и мировых) литератур XIX века. Великие авторы-современники создавали ситуацию, в которой других авторов критики и вдумчивые читатели судили по их мерке. Так, для сегодняшнего читателя звучит непроизвольно комичным рассуждение Философова, замечающего вполне серьезно, что Боборыкин – нет, отнюдь не Лев Толстой и не Достоевский. Но ведь не только Боборыкин их современник – и Философов печатает свою статью в XII номере «Русской мысли» за 1910 г., лишь несколько месяцев спустя по кончине Льва Толстого [8];
– во-вторых, действовал парадокс художественной формы: от автора ждали и он ждал от самого себя (или сокрушался, если оказывался неспособен) романа, пьесы, хотя бы повести, а роман и пьеса требовали «мысли». Боборыкин и пытался всячески обрамить свои наблюдения, бесконечный ряд зарисовок и портретов, в некое целостное художественное высказывание – сообщить «единую мысль», а поскольку натура его была прежде всего репортерская, внимательного наблюдателя все новых и новых типов и ситуаций, только возникающих или уже распространяющихся в жизни, то «мысль» чаще всего оказывалась более чем условной. Тривиальное, расхожее ведь тем и удобно, что ничему не мешает, и, следовательно, не заслоняет сам предмет. Но от этого же не было ничего более резонного, чем упрек в банальности содержания, если ставить раз за разом вопрос о смысле целого, романа или повести, а не об отдельных сценах. Впрочем, иногда, как в упомянутом выше скандальном романе 1868 г. «Жертве вечерней», эта условность общей рамки оборачивалась парадоксом: попытавшись рассмотреть «женский вопрос» на излете 1860-х, судьбу молодой вдовы, ищущей себе смысла жизни и в первой части окунающейся в мир либертинажа, Боборыкин неожиданно для себя произвел скандал (в том числе и от того, что слишком погрузился в атмосферу французской литературы, живя с осени 1865 г. в основном за границей, и недоучел различие границ приличий в русской литературе с французской, точнее – недооценил их важность, вызвав на себя шквал моралистической критики сразу из всех политико-литературных лагерей);
– в-третьих, он оказывался слишком понятен, поскольку сделал своим предметом описание собственного круга, образованного общества, интеллигенции (понятие, введением которого в русский оборот он гордился, и был, как теперь хорошо известно, неправ, утверждая свой приоритет [9], но, во всяком случае, он много сделал для его популяризации).
Впрочем, в рассуждения критиков следует внести важное уточнение: Боборыкин никогда не пользовался громкой славой, не был предметом обожания (как и сильной ненависти), не был властителем умов, но при этом его, по крайней мере до конца 1900-х, стабильно публиковали и читали. Он был именно профессиональным писателем, от которого читатели ждали в меру интересного, достаточно умного текста – рассказа о мире узнаваемом, общем и для автора, и для его аудитории. Розанов недружелюбно, но метко записывал в «Уединенном»: «По фону жизни проходили всякие лоботрясы: зеленые, желтые, коричневые, в черной краске… И Б. всех их описывал: и как шел каждый, и как они кушали свой обед, и говорили ли с присюсюкиванием или без присюсюкивания. Незаметно в то же время по углам “фона” сидели молчаливые фигуры… С взглядом задумавшихся глаз. Но Б. никого из них не заметил (о Боборыкине, “75-летие”)» [10].
Последнее, бывшее скорее препятствием, недостатком для современников, интересующихся «другим», открывающим для себя русскую деревню, «мужика», или, например, вглядывающихся через посредство Лескова в быт и нравы духовенства, для нас оборачивается большим преимуществом. Ведь Боборыкин на протяжении целой половины столетия вновь и вновь описывает, о чем думают, как живут, что обсуждают, какими желают выглядеть в своих глазах и глазах окружающих, а какими являются на самом деле русские интеллигенты. При этом он описывает, не имея никакой отчетливой партийной позиции, в каждый конкретный момент разделяя те взгляды, которые полагается иметь всякому честному человеку, но без крайностей, – и в силу этого его никто не мог признать вполне своим, хотя отчасти он был своим почти всем.
* * *
Театр с молодых лет и на протяжении всей жизни был предметом любви Боборыкина [11]: именно с драматургией был связан его литературный дебют [12], о своих ранних театральных интересах и увлечениях он подробно рассказывает не только в мемуарах, но и в огромном автобиографическом романе «В путь-дорогу» (1862–1864) [13], к которому прямо отсылает в воспоминаниях как к изложению – лишь чуть подернутого романным переосмыслением – обстоятельств и, главное, идей и чувств своей молодости. О любви Боборыкина к театру много говорят его воспоминания, в особенности своеобразные «Столицы мира» (1911) – рассказ об истории европейского театра, беллетристики и журналистики за тридцать лет – через собственный опыт, непосредственное наблюдение. В самом начале 1870-х он будет читать курс лекций о театре в Петербургском «Собрании художников», который затем, обработанный и дополненный, выпустит в качестве объемной книги – «Театральное искусство» (1872), один из первых отечественных трактатов о театре и актерской игре [14].
Публикуемая в данном издании впервые пьеса Боборыкина «Скорбная братия», однако, в том числе и по замечанию самого автора была скорее «повестью в диалогу на тему