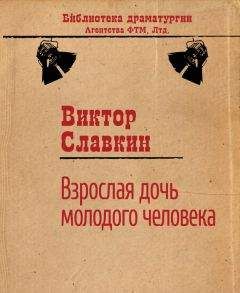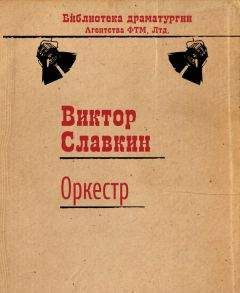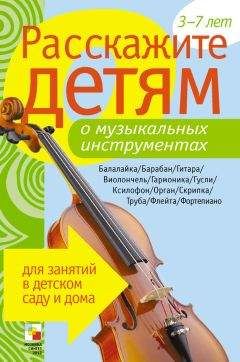Постскриптум. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли… в Крыму — вопрос — там смогу я совершать паломничества, бродить вокруг вашего сада, встречать вас, мельком вас видеть… Проклятый приезд, проклятый отъезд».
Пауза.
Валюша. «Дорогой мой Петушок! Милый мой, незабвенный Петенька, рука моя с трудом повинуется мне, когда я пишу эти строки. Сегодня я вспомнила всю нашу с тобой жизнь, для меня это так и звучит — жизнь, и мне она представилась одним сплошным ожиданием твоего звонка. Ты постарайся понять меня. Я женщина. И хотя мне тогда было столько, сколько сейчас Наде, я вполне могла представить себе сегодняшний день, когда мне столько, сколько мне сейчас. И ничего хорошего я не видела в этом дне. Я опять сижу у телефона, и ты снова где-то. Милый, это невыносимо! Жизнь наша так пуста и отвратительна, в ней такое счастье любить, быть рядом, — дорогой, дорогой, разве можно добровольно от этого отказываться? Не знаю, что почувствовал ты после нашего последнего разговора, я — то же, что в детстве: неожиданное выбрасывание какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда. Пустота детской руки, только что выбросившей в окно курьерского поезда — что?.. Было и нет, и уже не видно, и не вернуть, и не вернуться — все! О твоей мягкости: ты ею откупаешься, затыкаешь этой мягкостью дыры ран, тобой наносимых. О, ты добр, ты мягок, ты мечтателен. Это — так. Не мыслю тебя ни воином, ни царем. Теперь важнейшее. О Петр, Петр, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону — за помощью. Видно, счастье так мало создано для нас, что мы не признали его, когда оно было перед нами. Не говори же мне больше о нем, ради Христа! Я так много хотела сказать тебе, но написать об этом невозможно, а сказать еще невозможнее. Сил тебе и счастья. Валюша».
Пауза.
Паша. «Петя, душа моя, здравствуй! Этим письмом хотел напомнить тебе, что в понедельник, друг, нам на службу идти. Приниматься за дело, которому мы совместно посвятили вот уже более десяти лет. Поприще наше для России небезразличное, и дело свое исполнять мы должны с отменной добросовестностью и отвагой, равно как с осознанием предназначения своего, хотя не всегда результаты трудов наших совпадают с тем идеалом, который виделся нам при начале. Ты пишешь, вот тебе грустно, что неудовлетворен трудом своим, что судьба твоя зависит от людей, тобой не уважаемых, от моментов, тобой не приемлемых… Что я тебе скажу на это… А может быть, ну их! То есть не пробовал ли ты, душа моя, не думать об этих людях и моментах, выкинуть их из головы? Что их держать? Черт с ними, а? А еще, душа моя Петруша, не снился ли тебе когда-нибудь такой сон. Входишь ты в дом, в нем праздничный вечер, ты в этом доме не бывал прежде. Пробегаешь первый зал и еще несколько других. Везде освещение; то тесно между людьми, то просторно. Доходишь до последней комнаты, толпа народу, кто за ужином, кто за разговором; я там же, сижу в углу, наклонившись к кому-то, шепчу… Необыкновенно приятное чувство, и не новое, а по воспоминанию мелькает в тебе, ты повернулся, где-то был, воротился; вдруг я из той же комнаты к тебе навстречу. Первое мое слово: ты ли это, Петушок? Как переменился! Узнать нельзя. Я увлекаю тебя в уединенную длинную боковую комнату, головой приклоняюсь к твоей щеке, щека у тебя разгорелась, и — подивись! — мне труда стоило, нагибался, чтобы коснуться твоего лица, а ведь ты всегда был выше меня гораздо. Но во сне величины искажаются, а все это сон, не забудь, — сон! Тут я долго приставал к тебе с вопросом: написал ли ты что-либо для меня? Вынудил у тебя признание, что ты давно отшатнулся, отложился от всякого дела, охоты нет, ума нет… „Дай мне обещание, что напишешь!“ — „Что тебе угодно?“ — „Сам знаешь“. — „Когда же должно быть готово?“ — „Через год непременно“. „Обязываюсь!“ — говоришь ты. „Через год, клятву дай!“ — говорю я. И ты даешь ее с трепетом. В эту минуту малорослый человек в близком от нас расстоянии, но которого ты недовидел, внятно произнес эти слова: „Лень губит всякий талант“. А я, оборотясь к человеку: „Посмотри, кто здесь!..“ Он поднял голову, ахнул, с визгом бросился тебе на шею… Дружески тебя душит, душит… Ты пробуждаешься. Хочешь опять позабыться тем же страшным сном.
Не можешь. Выходишь освежиться. Чудное небо! Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной местности… Наконец ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла твое беспамятство, затеплил ты свечку в своей храмине, садишься к столу и живо помнишь свое обещание: во сне дано, наяву исполнится. Да так ли уж, Петруша, так ли уж?.. Впрочем, остаюсь твоим преданным слугою — Паша».
Пауза.
Петушок. «Дорогие мои друзья! Милые мои колонисты! Валюша, Надя, Ларс, Владимир Иванович, Паша и глубокоуважаемый Николай Львович Крекшин! Руководимый таинственным инстинктом, я дерзаю спросить всех вас разом и торжественно: признаете ли вы меня достойным внимания вашего? Если скажете „да“ и если вполне согласны со мной, то позвольте назвать вас друзьями моими и до конца исполнять священные условия дружбы в отношении вас. Я же получил от вас сегодня подарок бесценный — сегодняшний день. Что особенного в этом дне? День этот есть день вполне обычный. Но не в видимых знаках дело, не в совместных прогулках в саду и не в бодрых криках дружеского застолья. А в том, что в сообществе нашем скрыт знак невидимый, ощутимо знамение, явственно проступают линии небесного чертежа. Если лет двадцать тому назад меня бы спросили: „Что такое Отечество?“ — я не задумываясь ответил: „Это все люди моей страны“. В детстве счастье представлялось мне так. Ранним прохладным утром, предваряющим жаркий городской день, мы в белых майках и легких летних брюках собираемся в своем дворе, чтобы идти на демонстрацию, на всех балконах люди, они вышли проводить нас, приветствовать нас, и высокий колодец двора полон радостных возгласов, летящих сверху вниз и снизу вверх. И вот мы выходим на улицу, на жаркое солнце и вливаемся в общую колонну людей, таких же, как мы. „Мы идем и поем…“ Но шли годы, и все меньше и меньше вокруг меня становилось людей… „Мы проходим по проспектам и садам…“ Я никогда не был за границей, я не знаю, как живут люди там. Для меня все здесь. Если где-то, на необитаемом острове, не к кому пойти, не с кем поговорить, посидеть за одним столом — это нормально, это можно понять. А если здесь, где ты родился, где ты живешь… А пройдет еще десять, двадцать, тридцать лет — куда мы придем, в какой дом, к каким людям? Кто примет нас как братьев своих, кто омоет раны наши, кто успокоит растрясенную душу? Мы никогда не думали об этом. Или думали: любой дом примет нас, любая крыша укроет от непогоды… Отечество представлялось нам первомайской демонстрацией, коллективной поездкой на речном трамвайчике по Москве — реке, спевкой огромного хора на стадионе… Дорогие мои колонисты! Милые мои друзья! Сквозь слезы радости смотрю я на вас и с горечью взглядываю в собственную душу. Кто остался у нас, кроме нас самих? Мы у себя лишь и остались. У нас нет ни Бога, в которого мы не верим, ни Отечества, которое не верит нам. И вот мы сидим здесь, несколько человек, под одной крышей… А может быть, это и есть наше Отечество? Случай собрал нас вместе, момент усадил рядом друг с другом — а если это не случай, не момент, а судьба?.. Ухватиться за край стола этого мы должны и — кровь из-под ногтей! — держаться, держаться, не отпускать! И вот когда мы удержимся вместе, когда без боязни сможем отпустить края стола этого, когда по рукам нашим пойдет круглая чаша красного как кровь вина и каждый пригубит ее — сквозь стены эти услышим мы музыку небесных сфер, сквозь крышу дома этого нам покажутся звезды. Не хочу писать в конце моего письма к вам слово „прощайте“, и даже „до свидания“ мне не подходит — мы не расстаемся никак! Ваш, ваш, ваш Петушок».
Пауза.
Вечер. За столом, накрытым белой скатертью, одинокие фигуры людей. Горят свечи. Где-то далеко ухнул взрыв. Голос: «В саду у дяди-кардинала, пленяя грацией манер, маркиза юная играла в серсо с виконтом Сент-Альмер…»
Петушок достает из кармана листок вчетверо сложенной бумаги, разворачивает его и начинает читать еще одно письмо.
«Милые мои друзья! Дорогие мои колонисты! Пишу вам, потому что у меня нет никакого другого адреса, по которому я мог бы написать. Да и не уверен, получите ли вы мое послание. В чем можно быть уверенным в такое время?.. Как я попал сюда, мне трудно объяснить. Но я всегда попадал в самые неприятные истории. Уж эта будет последней. Эта война — война одиноких людей. У каждого на склоне горы своя глубокая бетонная нора.
И время от времени, когда наши геликоптеры и аэропланы отгоняют огонь со склонов горы в долину, мы выскакиваем и перебегаем в следующую нору, где только что сидел скрюченный человек, после которого здесь, в этой норе, ничего не осталось, даже окурка, потому что курить в таком аду не хочется. И нелепо и жутко видеть в этой нехристианской стране наших сестер милосердия, их ярко — красные кресты на туго накрахмаленных чепцах, каким-то непостижимым образом сохраняющих свою девственную довоенную белоснежность. И еще я не могу привыкнуть к здешним деревьям, которые от этой войны, от отравляющих газов, от взрывов сошли с ума. Потеряв все свои природные инстинкты, они расцветают и опадают по нескольку раз на дню. И поэтому мне кажется, что здесь, на этом склоне, я уже много — много лет и состарился и никак не умру, хотя это так просто сделать… Однако не горюйте обо мне. Здесь, на этой войне, человек исчезает сразу, словно спичка, зажигающая газовую конфорку. И когда придет моя очередь и я вспыхну — может быть, у вас, там, на кухне, сам по себе зажжется газ на плите. Поставьте тогда на этот огонь чайник и попейте чайку. И пусть все будет, как тогда, в этот святой вечер, — Надя пусть сидит в бабушкином платье, а Николай Львович наденет свою шикарную шляпу, европейский фасон. Не забудьте также свечи, кажется, они были у нас тогда — да, обязательно пусть будут свечи! Потому, когда вы получите это письмо, которое я сейчас заканчиваю, скрючившись в своей бетонной норе, — сожгите его! Сожгите, сожгите!» (Поджигает письмо в пламени свечи и бросает его в блюдо, стоящее на столе.)