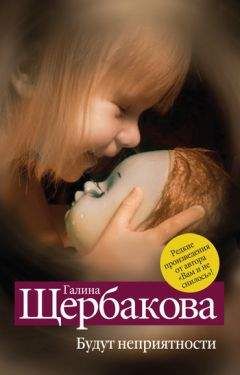– Я представляла его другим, – прошептала она. – Совсем другим…
– Вот видишь, – засмеялся мужчина, – ты даже солнце в лицо еще не знаешь, хоть ты так давно им пользуешься. Я тебе сейчас скажу одну вещь… Только ты не убегай… Скажу, а ты подумай… Позвони домой, – очень тихо сказал мужчина. – Послушай чужого отца, дочка… Смотри, сколько у меня завалялось монет…
И он протянул ей ладонь…
Пусть я умру, господи
Киносценарий
Ноги в стареньких, рваных кедах, из которых уже вылезают носки, обхватили Нечто.
Нечто тяжело раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Мы видим усилие ног в старых кедах, придающих этому раскачиванию ускорение.
– Слезь, зараза, слезь! – Голос хриплый, из набитого рта. Потом возникает хозяин голоса, строитель в спецовке с откусанным батоном и бутылкой кефира. – Нашлась! Тоже мне! А я возьму и тобой шваркну. Заправлюсь и шваркну! Будешь у меня мокрое место.
– Таких отстрелять – только польза будет. Раньше все стиляги были… А сейчас пошло черт-те что. Я бы стрелял! – Это другой рабочий. Он сидит. У него на коленях аккуратненько на чистом полотенце нарезана колбаса, и он ее ест вилкой-трезубцем.
Нечто продолжает раскачиваться. Мы по-прежнему видим только кеды.
– Тут один, такой же, с десятого этажа прыгнул. Жизнь ему, засранцу, надоела.
Это говорит тетка из проходящих мимо. Поставила пудовые сумки на землю и включилась в разговор с полоборота. Громко так, зло:
– А ну слезь сейчас же, пока я милицию не привела! Слезь, соплячка! Мать небось в очереди стоит…
– Какая там мать… Детдомовские они. – Тот, что с трезубцем, ткнул им в направлении чего-то и многозначительно замер. – Растут без понятия.
– А у тебя его много – понятия? – сказал один из строителей. – Я сам детдомовец, чем я тебя хуже?
– Я не в том смысле…
– Напустились! Стрелять! Чего все такие злые? Гав! Гав!
– Слезай, соплячка! Кому говорю – слезай! – тетка уже кричит, что есть мочи.
На что же, наконец, она смотрит, на кого так кричит?
Ближе, ближе Нечто… Все крупней рваные кеды.
На каменной «бабе», которой рушат стены, сидит «соплячка». И всего ничего ей – лет четырнадцать. И такая она гневная и решительная в этот момент, что тот с кефиром вдруг сказал:
– Да что я сам? Мне этот домик самому нравится… Пусть бы стоял… Хлеба не просит…
Видим домик. Белый, изящный, с колоннами. Но запущенный и облупленный так, как можно запустить дом, если поставить себе эту цель, и никакой другой больше.
Она же, «соплячка», молчала и раскачивалась на фоне старой усадьбы, высотной новостройки, вырубленного сада и нескольких тоненьких, почему-то сохранившихся возле усадьбы березок.
Перепрыгивая через канавы, приближается милиционер.
Ему навстречу бежал прораб.
– Никакой ценности дом не имеет, – кричал прораб. – У меня есть документ из АПУ.
– Слезай! – мягко сказал милиционер. – Чего толпу собрала?
– Крови жаждут! – ответила девочка. – Вот он батон сожрет и будет мною шваркать! До мокрого места.
– Шуток не понимаешь, да? – закричал тот, что с батоном.
– Ты чья? – спросил милиционер.
– Государственная, – ответила девочка. – Значит, ничья. Шваркай, дядя, скорей! У меня ноги сомлели.
– Господи! Господи! – кричала немолодая женщина.
Она бежала, расстегнув пальто, и так махала руками девочке, что толкнула стоящего и наблюдающего пожилого мужчину в каком-то линялом, зашорканном берете.
– Оля! Оля! – кричала женщина. – Они не будут! Они не будут! Академик, святой человек, с ними не согласен! Он им не подписал. – Подбежала к прорабу и сунула ему какую-то бумагу.
Потом кинулась к «бабе» и, причитая, стала снимать Олю.
– Дурочка моя! Раймонда Дьен!
Мужчина в берете пожал плечами и ушел, насвистывая какую-то странную мелодию из нескольких песен сразу.
Дверь, на которой написано «Группа фильма «За океан и обратно».
В нее вошел человек в берете.
Комната полна народу. В центре ее стоял режиссер в позе «воздев руки горе». Видимо, он много говорил до того, а сейчас была немая сцена. Человек, который вошел, снял берет и стал почему-то бить им по колену, будто выбивая из него пыль.
В той же позе – «руки горе» – режиссер закричал сразу очень высоким голосом, отчего и сорвал его тут же до фальцета:
– Я пишу докладную, Иван! Ты не понимаешь моей интеллигентности… В конце концов, у тебя было три месяца… – Он уже почти сипел. – А ты приводил каких-то… Кх-кх-кх… Ме-дуз…
– Кого я приводил? – тихо спросил человек, стуча беретом по колену.
– Ме-дуз… Дайте воды, черт вас возьми. – Все одновременно, кроме Ивана, кинулись к графину. Он был пустой…
Толпой побежали за водой.
Режиссер всем своим видом изображал отчаяние, остальной народ изображал сочувствие, Иван же зачем-то растягивал берет во все стороны и молчал.
Принесли воду. Режиссер, кривясь, залпом выпил стакан и сказал твердым баритоном:
– Последнее предупреждение, Иван… Самое последнее… Мне нужен характер… Личность… Маленькая, но стальная девочка…
– Раймонда Дьен, – сказал Иван. – Ладно, я пошел… – Он нацепил на ухо побитый и растянутый берет и покинул комнату.
– Кто такая Раймонда Дьен?.. – застонал режиссер. – Кто она? Я забыл напрочь.
Все пожимали плечами, переглядывались. Так и не вспомнили.
Сначала мы видим глаз. Большой, красивый, в комочках туши на ресницах, с небесной синевой на веке. Глазу трудно скрыть восхищение самим собой, выражение его такого, что мы должны понять – не каждому такой глаз дается. Это редкий, уникальный глаз.
А потом возникает рука, как бы со стороны, отнимает зеркальце, грубо отнимает, не ценя красоту, и мы увидим ту самую девочку Олю с «бабы», которая в халатике сидит по-турецки на кровати и смотрит на нас двумя разными глазами – парадным (мы его уже видели) и обыкновенным, который на каждый день.
Оставшись без зеркальца, Оля держит в одной руке кисточку для ресниц, в другой, вытянутой, тушь, в которую поплевывает в этот самый момент ее соседка с другой кровати, в таком же точно халатике. Эта другая девочка остервенело малюет в черный цвет абсолютно рыжие и короткие ресницы, что выглядит смешно и грустно одновременно. Потому что – выясняется – рыжесть никуда человеку не деть. Это Катя.
От одинаковых халатиков кажется, что девчонок много, хотя на самом деле их шестеро. Они все сидят по-турецки на примитивных кроватях и занимаются с упоением черт знает чем.
Одна нарисовала себе такие губы, которые «носили» когда-то давно-давно, в эпоху немого кино. В эту эпоху жили бабушки, а может, и прабабушки наших девочек. Это Лорка-великанша.
У другой же на щеке нарисован цветочек. Наверное, где-то это виделось… Это Муха.
А у третьей вообще оказались две абсолютно разные половины лица. Одно «под китаянку», другое «под негритянку». Это Лиза.
У Фати-татарки – сплошная на лице грязь.
Зеркальце, и помада, и тушь, и коробочка самой дешевой розовой пудры, облаком разлетающейся по сторонам – все общее.
И все эстафетно, в строгой последовательности передается из рук в руки. А потому наша Оля так и продолжает сидеть с одним нарисованным глазом. Она терпеливо ждет своей очереди.
Девочки разговаривают.
Это довольно хитрый разговор, в котором вопрос не обязательно требует ответа, а одно слово, для постороннего – пустое, для них – целая речь.
– Экскаватор…
– Запросто…
– Сыпануть в него гравия… И абзац!
– Колония…
– А Клавдя?
– Умом тронется…
– Голодовку?
– Ой! Ни за что! Умру… У меня такая природа. Я бы все время ела…
– Мри на здоровье…
– Дипломатов ненавижу…
– Им быстро строят…
– Можно кафель побить…
– Колония…
– Клавдя… Вот наше горе…
– У нее пульс сто двадцать в покое. Тук-тук-тук… На улице слышно.
– Идиотка старая! А бегает, как здоровая…
Время от времени то одна, то другая вздыхает перед тем, как проштампованным детдомовским полотенцем вытереть глаз ли, щеку с цветочком или губы. Не сразу ведь достигается нужный художественный эффект. Помучаешься…
Дверь комнаты закрыта ножкой стула. А окна загорожены, чем Бог послал. Портфелями, подушками, альбомами, а то и просто газетами. Дело в том, что в комнате нет штор. Болтаются вверху ненужные колечки. На одном висит пришпиленное булавками платье с отпущенным подолом. Нитки на подоле шевелятся, как щупальца.
На стене школьная доска, из тех, что были уже кем-то выброшены. На ней нарисована карикатура на Олю, сидящую на «бабе». И подпись:
Всех, кто тронет этот дом,
В порошок сотрем.
Это вам не шуточки,
Дипломаты в юбочках!
Разрисованные, как дикарки, девчонки с наслаждением разглядывают себя в передаваемое из рук в руки зеркальце.
– У одной моей знакомой тетки, – говорит Катя, – парик серебряный. Она его как наденет – ну! Обвал!