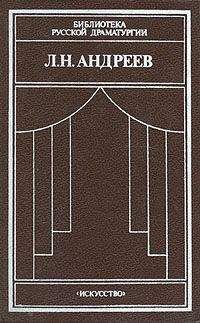Савва (улыбаясь послушнику на его бессознательную радость, рассеянно). И давно это с вами началось?
Сперанский. Еще с семинарии, когда мы изучали философию. Тяжелое это состояние, Савва Егорович. Теперь я несколько привык, а вначале было прямо-таки несносно. Вешался я раз — сняли; вешался другой раз — опять-таки сняли. И из семинарии выгнали: ступай, говорят, безумный, вешаться в другое место. Как будто есть другое место, а не все одно.
Послушник. Савва Егорович, поедемте завтра рыбу ловить на мельницу.
Савва. Я не люблю рыбу удить: скучное занятие.
Послушник. Жалко. Ну так пойдемте же в лес, сухие ветки сбивать. Очень весело: ходишь и палкой сбиваешь, а потом как закричишь: го-го-го! А из оврага: го-го-го! А плавать вы любите?
Савва. Люблю. Я хорошо плаваю.
Послушник. Я тоже люблю.
Сперанский (вздыхая). Да. Странное положение.
Савва (улыбаясь послушнику). А? Ну как же вы теперь?
Сперанский. Дядя мой, отец диакон, когда брал меня к себе, так условием поставил, чтобы я больше не покушался на жизнь. Что же! Я и сказал: если мы, говорю, действительно существуем, то больше я вешаться не буду.
Савва. А зачем вам знать, существуете вы или нет? Вон небо, посмотрите, какое красивое! Вон ласточки. Травою пахнет… хорошо! (Кпослушнику.) Хорошо, дядя?
Послушник. Савва Егорович, а вы любите муравьиные кучи разорять?
Савва. Не знаю, не пробовал. Но думаю, что интересно.
Послушник. Очень интересно. А вы любите змей пускать?
Савва. Давно уже не приходилось. А некогда очень любил.
Сперанский (терпеливо ждущий окончания их разговора). Ласточки! Ну и летают они: что же мне от этого? А может быть, и ласточек этих нет и все это только сонная греза.
Савва. Что же, и сны бывают хорошие.
Сперанский. А мне вот все проснуться хочется — и не могу. Хожу, хожу до устали, до изнеможения, а очнусь — и опять я здесь. Монастырь, колокольня, часы бьют. И все — как сонная греза. Закроешь глаза — и нет его. Откроешь — опять оно появится. Иной раз выйду я в поле ночью, закрою глаза, и кажется мне, что ничего уж нет. Только вдруг коростель закричит, телега по шоссе проедет — и опять, значит, греза. Потому что, если уши заткнуты, тогда и этого не услышишь. А умру я, и все замолчит, и тогда будет правда. Одни мертвые, Савва Егорович, знают правду.
Послушник (улыбаясь, осторожно машет руками на какую-то птицу, шепотом). Спать пора! Спать! Слышишь!
Савва (с неудовольствием). Какие мертвые? Послушайте, господин хороший, у меня ум мужицкий, простой, и я этих тонкостей не понимаю. Про каких вы мертвых говорите?
Сперанский. Решительно про всяких. Оттого-то у мертвых лицо спокойное.
Вы посмотрите: как бы человек перед смертью ни мучился, а умрет — лицо у него сейчас же становится спокойное. Оттого, что правду узнал. Я сюда постоянно хожу, на все похороны, и это даже удивительно. Одну бабу тут хоронили — с горя умерла: мужа у нее на чугунке задавило. Что у нее в голове должно было перед смертью совершаться, подумать страшно, — а лежит такая спокойная: потому что узнала она, что горе ее — одна греза, видение сонное. Я мертвых люблю, Савва Егорович. Мне кажется, что мертвые действительно существуют.
Савва. Я не люблю мертвых… (Нетерпеливо.) Послушайте, однако, вы пренеприятный господин. Вы — как дверь, которая покоробилась от дождя и сквозь которую вечно дует. Вам это говорили?
Сперанский. Да. Высказывали.
Савва. И я не стал бы вас из петли вынимать. Какой дурак вас вынул?
Товарищи?
Сперанский. Первый раз отец эконом, а в другой раз — товарищи. Очень жаль, Савва Егорович, что вы так мною недовольны. А я хотел было вам, как человеку образованному, показать некий мой письменный труд, еще от семинарии оставшийся. Называется: «Шаги смерти», так, вроде рассказа.
Савва. Нет, уж избавьте. Да и вообще…
Послушник (поднимаясь). Отец Кирилл идет, надо удирать!
Савва. А что?
Послушник. Он меня в лесу поймал, как я «го-го» кричал. Ах, ты, говорит, леший, лесной дух, козлоногий… Завтра после обеден, ладно?
(Уходит, сперва идет прямо, потом каким-то танцующим шагом.)
Толстый монах. О чем беседуете, молодые люди? Вы никак будете сынок Тропинина, Егора Ивановича?
Савва. Да, он самый.
Толстый монах. Слыхал, слыхал. Почтенный человек — ваш батюшка. Присесть позволите? (Садится.) Вечер, а как жарко: не быть бы грозе к полуночи. Ну как, молодой человек, нравится вам у нас? Как против столиц?
Савва. Монастырь богатый.
Толстый монах. Да, благодарение Господу. В большом почете во всей, можно сказать, России. Есть многие, что даже из Сибири приходят. Далеко идет слава. Вот скоро праздник…
Сперанский. Утомительно будет вам, батюшка. День и ночь служение…
Толстый монах. Нужно потрудиться для монастыря.
Савва. А не для людей?
Толстый монах. Да и для людей, а то для кого же? У нас в прошлый год сколько одних кликуш исцелилось — конца-краю нет. Слепой прозрел, двое хромых заходили… Вот сами поглядите, молодой человек, тогда улыбаться не будете. Вы, как я слыхал, неверующий?
Савва. Верно слыхали, неверующий.
Толстый монах. Ай-ай, стыдно, стыдно! Конечно, много теперь неверующих из образованного класса, только лучше ли им от этого? Сомневаюсь.
Савва. Нет, не так много. Это они в церковь не ходят и думают про себя, что неверующие, но вера у них, пожалуй, глубже сидит, чем у вас.
Толстый монах. Скажите пожалуйста!
Савва. Ну да, под благородными, конечно, фасонами. Народ образованный.
Толстый монах. Конечно, конечно. Только с верою спокойнее.
Савва. Слыхал я, что дьявол тут по ночам монахов душит?
Толстый монах. (смеется). Пустяки какие!.. (К проходящему мимо седому монаху). Отец Виссарион, пожалуйте-ка сюда! Присаживайтесь. Вот сынок Егор Ивановича утверждает, что нас дьявол по ночам душит. Не слыхали?
Оба монаха благодушно смеются, глядя друг на друга.
Седой монах. Это некоторые от сытости плохо спят, вот им и кажется, что их душат. Дьяволу, молодой человек, в нашу святую обитель не войти.
Савва. А вдруг да явится? Что тогда, отцы, скажете?
Толстый монах. А мы его кропилом, кропилом! Куда лезешь, черномазый?
Монахи смеются.
Седой монах. Царь Ирод идет.
Толстый монах. Погодите минутку, отец Виссарион. Вот вы говорите — вера и прочее такое, а позвольте, я вам человечка одного представлю. Вон он как идет, а на нем вериг на полтора пуда. Танцует, а не идет. Каждое лето у нас гостюет, да и то сказать, — гость дорогой. Глядя на него, и другие в вере укрепляются… Ирод, а Ирод?
Царь Ирод. Чего тебе надо?
Толстый монах. Подь-ка сюда на минутку. Вот господин в Боге сомневается, поговори-ка с ним.
Царь Ирод. А ты сам что же, толстопузый, язык от пива не ворочается?
Толстый монах. Еретик! Экий еретик!
Смеются оба.
Царь Ирод (подходя). Который господин?
Толстый монах. Вот этот.
Царь Ирод (смотрит внимательно). Сомневается, так и пусть сомневается; мне-то какое дело?
Савва. Вот как!
Царь Ирод. А ты думал, как?
Толстый монах. Ты бы сел.
Царь Ирод. И так постою.
Толстый монах. (Савве громким шепотом). Это он для усталости. Пока не сомлеет совсем, так ни есть, ни спать не может. (Громко.) Вот господин удивляется, какие на тебе вериги.
Царь Ирод. Вериги что, — побрякушки. Их на лошадь надень, и лошадь понесет, сила бы у ее была… Душа у меня мрачна. (Смотрит на Савву.) Ты знаешь, сына я своего убил. Сам. Говорили небось сороки-то эти?
Савва. Говорили.
Царь Ирод. Ты можешь это понять?
Савва. Отчего же? Могу.
Царь Ирод. Врешь ты, не можешь. И никто этого понять не может. Обойди ты весь свет, всю землю, всех людей опроси, и никто не может понять. А если кто и говорит, что понимает, так врет, как ты. Ты и своего носа-то как следует не видишь, а тоже говоришь. Глуп ты еще.
Савва. А ты умен?
Царь Ирод. А я умен. Меня мое горе просветило. Велико мое горе, больше его на земле нету. Сына убил, сам, своими руками. Не этой, что глядишь, а той, которой нет.