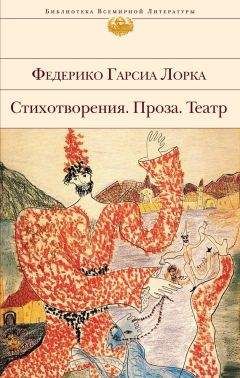Фокусник. Поднимитесь еще на одну ступеньку, и вы увидите, что человек – это былинка.
Режиссер. Не былинка – пловец.
Фокусник. Я могу превратить пловца в иголочку для шитья.
Режиссер. Вот это и есть театр. Именно поэтому я и затеял труднейшую игру – я надеялся, что любовь вырвется наружу и преобразит костюмы.
Фокусник. Когда вы говорите «любовь», я не могу не удивляться.
Режиссер. Чему?
Фокусник. Мне чудятся бескрайние пески в мутном зеркале.
Режиссер. А еще?
Фокусник. Рассветает, всегда рассветает.
Режиссер. Да, конечно.
Фокусник (сумрачно, постукивая пальцами по конской голове). Любовь.
Режиссер (садясь за стол). Когда вы говорите «любовь», я не могу не удивляться.
Фокусник. Чему?
Режиссер. Мне чудится, что песчинка превращается в живого муравья.
Фокусник. А еще?
Режиссер. Смеркается – каждые три минуты.
Фокусник (пристально глядя на него). Да, наверное. (Пауза.) Чего еще ждать от человека, который зарылся в песок, чтобы пробиться к театру? Да вы только попробуйте, откройте двери, и к вам валом повалят дожди, психопаты, мастифы, палые листья, помойные крысы. И как это может взбрести в голову – вышибить в драме все окна и двери?!
Режиссер. Только вышибив двери, можно вернуть драме смысл. Тогда все увидят, как в одной капельке крови растворяется каменная глыба закона. Нет ничего мерзее смертника, который спокойно засыпает, пальцем нарисовав на стене дверцу. Истинная драма там – на арене римского цирка, где в лабиринтах арок вечно снуют, не зная отдыха, люди, огни, ветер. Там театр истинных драм. Там разыгралась настоящая битва – она стоила жизни всем актерам. (Плачет.)
Слуга (быстро входя). Сеньор.
Режиссер. Что случилось?
За Слугой следуют Костюм Арлекина и Сеньора в трауре. Лицо ее скрыто густой вуалью.
Сеньора. Где мой сын?
Режиссер. Какой сын?
Сеньора. Мой сын Гонсало.
Режиссер. Когда кончился спектакль, он укрылся в оркестровой яме вместе с этим юношей (показывает на Костюм Арлекина). Потом Суфлер видел его в костюмерной на императорской постели. Больше мне нечего вам сказать. Все погребла земля.
Костюм Арлекина (плачет). Энрике.
Сеньора. Где мой сын? Утром рыбаки принесли мне огромную луну-рыбу – бледную, израненную, и кричали: «Вот твой сын!» Изо рта у нее стекала тонкая струйка крови, а дети смеялись и мазали кровью подошвы. Я закрыла дверь, и торговцы с рынка поволокли ее к морю.
Костюм Арлекина. К морю.
Режиссер. Спектакль давно кончился. В том, что случилось, я невиновен.
Сеньора. Я подам жалобу и потребую публичного суда. (Идет к выходу.)
Режиссер. Сеньора, там нельзя пройти.
Сеньора. Да, вы правы. В фойе темно. (Идет к другой двери.)
Режиссер. И здесь не пройти. Можно упасть с крыши.
Фокусник. Позвольте проводить вас. (Снимает плащ и укрывает им Сеньору. Отходит, делает пассы руками, затем распахивает плащ – Сеньора исчезла.)
Слуга подталкивает Костюм Арлекина к двери и в конце концов выносит его. Фокусник вынимает большой белый веер и, напевая нежную мелодию, обмахивается.
Режиссер. Мне холодно.
Фокусник. Что?
Режиссер. Я сказал – мне холодно.
Фокусник (обмахиваясь веером). Какое прелестное слово – «холод».
Режиссер. Я вам благодарен. За все.
Фокусник. Не стоит. Снять легко, а вот надеть – трудно.
Режиссер. Гораздо труднее – сменить.
Слуга (входя). Похолодало. Может, включить отопление?
Режиссер. Нет. Мы перетерпим, раз уж мы разворотили крышу, разнесли ворота и остались в четырех стенах драмы. (Слуга выходит в среднюю дверь.) Это ничего, что холодно. Трава такая шелковая, так и тянет в сон.
Фокусник. Сон!
Режиссер. Ведь спать – это все равно что сеять.
Слуга. Сеньор! Холод просто невыносимый!
Режиссер. Я же тебе сказал – мы должны вытерпеть. Нас этими фокусами не проймешь. Делай свое дело. (Режиссер надевает перчатки и, дрожа, поднимает воротничок фрака.)
Слуга уходит.
Фокусник (обмахиваясь веером). Помилуйте, чем же вам не угодил холод?
Режиссер (слабеющим голосом). Холод – одно из наиболее выразительных сценических средств.
Слуга (стоя в дверном проеме, сложив руки на груди. Его трясет от холода). Сеньор!
Режиссер. Что?
Слуга (падая на колени). Это публика.
Режиссер (бессильно роняя голову на руки). Проси.
Фокусник, сидя рядом с конской головой, насвистывает, обмахиваясь веером и выказывая живейшую радость. Левый угол декорации смещается, открывая ослепительно синее небо в облаках. С неба, словно дождь, медленно падают окоченелые белые перчатки.
Голос (где-то далеко). Сеньор.
Голос (где-то далеко). Что?
Голос (где-то далеко). Это публика.
Голос (где-то далеко). Проси.
Фокусник все быстрее машет веером. Начинает идти снег.
Медленно опускается занавес.
Суббота, 20 августа 1930 г.
Драма без названия
(Власть)
Перевод Н. Малиновской
Серый занавес.
Автор. Дамы и господа! Сегодня занавес подымется не затем, чтобы радовать вас игрой слов, и не для того, чтобы показать вам комнату, в которой ничего не происходит, хотя именно туда чаще всего и направляют театральные прожекторы, пытаясь уверить, что это и есть жизнь. Нет. Поэт в здравом уме и твердой памяти, хотя, возможно, не ко взаимному удовольствию, а к обоюдному огорчению, сегодня предлагает вашему вниманию темный закоулок действительности.
Смиренно заверяю вас – это не вымысел. Ангелы, тени, голоса, снежные лиры и сны существуют – они носятся в воздухе, они так же реальны, как похоть, как медяки в кармане или рак, затаенный в женской груди, или дряблые губы торговца.
Вы ходите в театр развлекаться, у вас есть авторы, которым вы рады платить, – я ничего не имею против! – но сегодня вы попали в ловушку: вам покажут то, чего вы не хотите видеть, вам выскажут те простые истины, которых вы не хотите знать, ибо Поэт надеется пробудить ваши сердца.
Вы не хотите знать… Но почему? Если и вы и я верим в Бога, отчего мы так боимся смерти? А если вы верите в смерть, откуда столько жестокости? Откуда это безразличие к чужой боли?
Ха-ха-ха! Вы скажете – я проповедую! А чем плоха проповедь? Вспомните, все вы когда-то ушли из дому, хлопнув дверью, оставив мать и отца, а ведь они бранили вас ради вашего же блага. А сейчас вы отдали бы и зеницу ока, только бы снова услышать те смолкшие голоса. И я говорю о том же. Тяжело смотреть в глаза правде. Но говорить правду в тысячу раз труднее, все равно что вопиять в пустыне. Тем более говорить ее вам, горожанам, обитателям самой жалкой и горестной мечты. Как вы бережете свое неведение! Вы заводите патефон, чтобы не слышать шелеста ветра, вы завешиваете окна тюлем, чтобы не видеть слез, а чтобы заглушить сверчка совести и спать спокойно, вы изобрели богадельни.
Проповедь? Да. Проповедь. До каких пор театр будет представлять чью-то жизнь, а не нашу? Зритель безмятежно спокоен – он знает, что представление не коснется его, но если бы вдруг его окликнули со сцены, заставили говорить, если бы солнце подмостков обожгло эти серые лица… Как это было бы прекрасно!
Автор хочет, чтобы вы поняли: это не театр, это улица, – и потому действительность вступает в свои права. И ему не нужна поэзия, мелодия, литература, он хотел бы преподать небольшой урок вашим сердцам – на то он и поэт. Впрочем, это мог бы всякий. Автор умеет сочинять стихи, и даже, кажется, неплохие, он разбирается в театре, но вот вчера он сказал мне, что всякое искусство наполовину искусственно, и это стало его тревожить, и ему уже не хочется тащить сюда витую колонну с золотыми голубками и ароматы белых лилий. (Хлопает в ладоши.) Кофе, пожалуйста.
Опускается занавес, на котором нарисованы дома и кучи мусора.
Пауза.
Покрепче. (Садится. Где-то играют на скрипке.) Аромат лилий прекрасен, но мне больше нравится запах моря. Что только не пахнет морем!.. Я рассказал бы, как пахнут морем груди сирен, но что им сирены? Они не видят, не слышат, только окликают берега, пересчитывая утопленников, – вот единственное, что волнует человека!.. Но как донести до театра запах моря? Как зажечь звезду над партером?