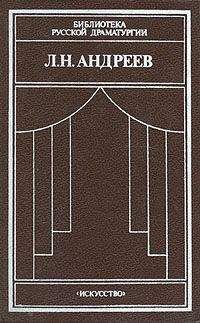Кондратий. А вам не жалко?
Савва. Их-то? Они мне тюрьму выстроили, а я их жалеть буду? Они голову мою в застенок посадили, а я их жалеть буду? Ха! Тебе в голову гвозди вбивали или нет? Нет. Ну, а у меня вся голова гвоздями утыкана — мастера они гвозди вгонять, пожалеть их надо?
Кондратий. Кто же вы такой, что никого не жалеете?
Савва. Я? Я, дядя, человек, который однажды родился. Родился и пошел смотреть. Увидел церкви — и каторгу. Увидел университеты — и дома терпимости. Увидел фабрики — и картинные галереи. Увидел дворец — и нору в навозе. Подсчитал так, понимаешь, сколько на одну галерею острогов приходится, и решил: надо уничтожить все. И мы это сделаем. Да, пора нам посчитаться, пора!
Кондратий. Кто мы?
Савва. Я, ты, Кондратий, другие.
Кондратий. Народ глуп, не поймет он этого.
Савва. Поймет, когда загорится все кругом. Огонь, дядя, учитель хороший. Ты слыхал о Рафаэле?
Кондратий. Нет, не приходилось.
Савва. Ну так вот. После Бога мы примемся за них. Там их много: Тицианы, Шекспиры, Пушкины, Толстые. Из всего этого мы сделаем хорошенький костерчик и польем его керосином. Потом, дядя, мы сожжем их города!
Кондратий. Ну-ну, вы шутите! Как же это можно — города!
Савва. Нет, зачем шутить. Все города. Ведь что такое ихние города? Это могилы, понимаешь, каменные могилы. И если этих дураков не остановить и дать им строиться еще, они всю землю оденут в камень, и тогда задохнутся все. Все!
Кондратий. Бедному человеку придется плохо!
Савва. Тогда все будут бедные. Богатый — отчего он богат? Оттого, что есть у него дом, деньги, забором он отгородился. А как не будет у него ни домов, ни денег, ни забора…
Кондратий. Верно! И документов, значит, нет — сгорели!
Савва. И документов нет. Иди-ка, дядя, работать, — буде дворяниться!
Кондратий (смеется). Потеха! Голые это все, как из бани!
Савва. Ты мужик, Кондратий?
Кондратий. Подати плачу. Крестьянин я, это верно.
Савва. Я тоже мужик. Нам, брат, с тобой хуже не станет.
Кондратий. Да уж куда хуже! Но только много народу пропадет, Савва Егорович!
Савва. Ничего, довольно останется. Дрянь, дядя, пропадет. Глупые пропадут, для которых эта жизнь, как скорлупа для рака! Пропадут те, кто верит, — у них отнимется вера. Пропадут те, кто любит старое, — у них все отнимется. Пропадут слабые, больные, любящие покой: покоя, дядя, не будет на земле. Останутся только свободные и смелые, с молодою жадною душой, с ясными глазами, которые обнимают мир.
Кондратий. Как у вас… Я ваших глаз, Савва Егорович, боюсь, особенно в темноте.
Савва. Как у меня? Нет, Кондратий, я человек отравленный, — от меня ихнею мертвечиною пахнет. Будут люди лучше, свободнее, веселее. И, свободные от всего, голые, вооруженные только разумом своим, они сговорятся и устроят новую жизнь, хорошую жизнь, Кондратий, где можно будет дышать человеку.
Кондратий. Любопытно. Только позвольте сказать вам, Савва Егорович… народ — он хитрый, припрячет что-нибудь или как. А потом, глядь, на старое и повернули, по-старому, значит, как было. Тогда как?
Савва. По-старому. (Мрачно.) Тогда совсем надо его уничтожить. Пусть на земле совсем не будет человека. Раз жизнь ему не удалась, пусть уйдет и даст место другим, — и это будет благородно, и тогда можно будет и пожалеть его, великого осквернителя и страдальца земли!..
Кондратий (качая головой). Однако!
Савва (кладя ему руку на плечо). Поверь мне, монах, я исходил много городов и земель, и нигде я не видел свободного человека. Я видел только рабов. Я видел клетки, в которых они живут, постели, на которых они родятся и умирают; я видел их вражду и любовь, грех и добродетель. И забавы их я видел: жалкие попытки воскресить умершее веселье. И на всем, что я видел, лежит печать глупости и безумия. Родившийся умным — глупеет среди них; родившийся веселым — вешается от тоски и высовывает им язык. Среди цветов прекрасной земли, — ты еще не знаешь, монах, как она прекрасна! — они устроили сумасшедший дом. А что они делают со своими детьми! Я еще не видел ни одной пары родителей, которые не были бы достойны смертной казни: во-первых, — что родили; а во-вторых, — что, родившись, тотчас не умерли сами.
Кондратий. Ого, как вы говорите!
Савва. И как они лгут, как они лгут, монах! Они не убивают правды, нет, они ежедневно секут ее, они обмазывают своими нечистотами ее чистое лицо, — чтобы никто не узнал ее! — чтобы дети ее не любили! — чтобы не было ей приюта! И на всей земле — на всей земле, монах, нет места для правды.
Задумывается. Пауза.
Кондратий. А нельзя как-нибудь инако, без огня? Очень страшно, Савва Егорович. Что же это такое будет! Светопреставление.
Савва. Нельзя, дядя, иначе: светопреставление и нужно. Лечили их лекарством — не помогло; лечили их железом — не помогло. Огнем их теперь надо — огнем!
Пауза. Сверкают безмолвно зарницы. Где-то далеко колотит сторож в железную доску. Савва неподвижно-широко смотрит на зарницу: он окован громадною думою о жизни, мыслями без слов, чувством без выражения. Видит свое одиночество и близкую смерть.
Кондратий. И кабаков не будет?
Савва (думая). Ничего не будет.
Кондратий. Кабаки построят. Без кабаков не обойдутся.
Продолжительное молчание.
Кондратий. Да-а… О чем задумались, Савва Егорович? (Савва молчит.
Кондратий прикасается к его плечу.) На вас бабочка села.
Савва. Что?
Кондратий. Бабочка села. Мертвая голова называемая — по ночам летает. Да что вы?
Савва (вздрогнув, громко). Оставь.
Кондратий. Испугал я вас?
Савва. Что? (Очнувшись, удивленно.) Какие зарницы! Ты что говоришь? Да, да. Ничего, брат, все устроится… (Вздохнув, весело.) Ну как же — начнем? Согласен? Да ну, дядя, будет упрямиться!
Кондратий (покачивая головой). Загадали вы мне загадку.
Савва. Ничего, дядя, не робей. Ты человек умный, сам понимаешь, что нельзя иначе. Кабы можно иначе, разве стал бы я сам, пойми!
Кондратий (густо вздыхает). Да-а… Эх, Савва Егорович, ангел вы мой неоцененный, разве я этого не понимаю? Жизнь проклятущая! Эх, Савва Егорович, Савва Егорович! Вот скажи я вам, кому хочешь скажи: я человек хороший, — засмеют, по затылку дадут: «что брешешь, пьяница!..» Кондратий — хороший человек… самому даже смешно, а я, ей-Богу, хороший. Так, не знаю, как это вышло. Жил-жил — и вдруг! Как это, по какой причине — неизвестно.
Савва. А ты вот все боишься!
Кондратий. Кто я теперь такой: ни Богу свеча, ни черту кочерга. Как оглянешься иной раз да подумаешь… Эх, Савва Егорович, разве у меня совести нет? Разве я не понимаю? Все я понимаю, но только… Я и дьявола не то вправду боюсь, не то так: дурака ломаю. Эка штука — дьявол! Побыл бы на нашем месте, так узнал бы кузькину мать. Недавно это, пьяный, кричу я: выходи, дьявол, на левую руку, я человек отчаянный! Мне ничего не жалко: пропадать, так пропадать… Эх, разжалобили вы меня, Савва Егорович!
(Утирает рукавом глаза.)
Савва. Зачем пропадать? И я пропадать не хочу. Еще поживем, дядя! Тебе сколько лет?
Кондратий. Сорок два.
Савва. Ну вот, самые года. Деньги тебе нужны?
Кондратий. А они у вас есть?
Савва. Есть!
Кондратий (подозрительно). Откуда же это они у вас?
Савва. А тебе-то что? Может быть, я убил богатого купца или кого-нибудь зарезал. Доносить ведь не пойдешь?
Кондратий (успокаиваясь). Что вы, Савва Егорович, это дело ваше. А деньги, конечно, никогда не лишнее. Я тогда из монастыря уйду. У меня, скажу вам по совести, давно уже одно мечтаньице есть: сесть при дороге и трактир открыть. Компанию я люблю, и сам я разговорчивый человек; у меня дело пойдет. Трактирщик если и сам выпивает, так это не беда: народу приятнее; у веселого трактирщика и штаны оставишь — не заметишь. По себе знаю.
Савва. Что же, можно и трактир.
Кондратий. И кроме того, человек я еще в полном соку. Чем тут грешить, лучше же я законным браком…
Савва. В посаженые отцы, не забудь, позови.
Кондратий. Молоды еще! А деньги, Савва Егорович, когда — раньше или потом?
Савва. Иуда раньше получил.
Кондратий (огорченно), Ну вот! То сами подговариваете, а то — Иуда. Разве приятно такие слова слышать? Живого человека Иудой называете!