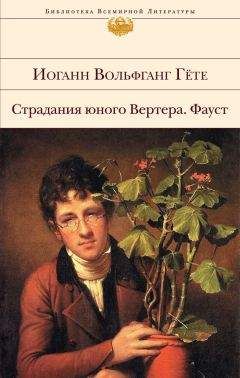171
Намек на основание в Греции франконского рыцарского государства французским крестоносцем Гийомом де Шампилит.
Деифоб, младший сын Приама троянского, был предан Менелаем мучительной казни: по его повелению Деифоба медленно изрубили на куски.
Вступление в повествование форкиады о рождении и быстром возмужании Эвфориона было первоначально задумано как шутливая беседа с публикой, в которой прикинувшийся форкиадой Мефистофель иронизирует над немецкими филологами и философом Шеллингом, предпочитающими греческой мифологии мифологию восточную, в частности индийскую, как более проникнутую духом мистики. От этого обращения к партеру сохранился в окончательной редакции трагедии только стих: «А с ними вы, брадатые, что, сидя там» и т. д.
Эвфорион – сын Фауста и Елены, названный так по имени сына Елены и Ахилла (см. выше). Эпизод Эвфориона раскрывает весь смысл вплетенной в трагедию темы Елены. // Менее всего следует, по примеру большинства комментаторов, рассматривать этот эпизод как не зависящую от хода трагедии интермедию в честь Байрона, умершего в 1824 году в Миссолунгах, борясь за освобождение греческого народа, хотя физический и духовный облик Эвфориона и принял черты английского поэта, столь дорогого старому Гёте. Но такое сближение с Байроном не объясняет эпизода с Эвфорионом как определенного этапа трагедии. А ведь Эвфорион – прежде всего разрушитель недолговечного счастья Фауста с Еленой: в общении со спартанской царицей Фауст перестает тосковать по бесконечному. Он мог бы сказать мгновению: «Прекрасно ты! Продлись, постой!», если бы брак с Еленой не был только наваждением. Это наваждение и разрушает сын Фауста и Елены, Эвфорион, наследник фаустовского духа, фаустовской тяги к бесконечности. Этим он отличается от окружающих его теней и тех, кто, подобно Фаусту, соединил свою судьбу с их призрачным существованием. Как существо, порывающее со вневременностью, в которой здесь пребывает Фауст, Эвфорион подвержен законам времени, а стало быть, и закону смерти. Гибель Эвфориона вносит в заколдованный круг вневременности временное начало, и суровые законы времени и тлена вмиг рассеивают прекрасную, но лживую сказку. // Такова сюжетная схема эпизода с Эвфорионом. Социальный же смысл, который вкладывает в него поэт, сводится к следующему: можно укрыться от времени, углубившись в мир искусства, созерцая уже однажды созданные эстетические законы и закономерности. Но коль скоро «любитель изящного» хочет быть и «творцом», он неминуемо должен перешагнуть хрупкие границы «автономного» искусства и вступить в общение с историческим началом – современностью. Так всегда поступал и Байрон, это «высшее поэтическое явление века», как называл его Гёте. Не мог, хотя он сам и не подозревает этого, пребывать в мире искусства и неспособный к бездейственному созерцанию духовно активный Фауст. Тем самым подготовляется новый этап в становлении Фауста: Фауст, погруженный в активную деятельность.
Икар (восковые крылья которого растаяли, когда он приблизился к солнцу, что повлекло за собой его падение в море и смерть) здесь упоминается вещими троянками как прообраз Эвфориона, которого должна постигнуть та же трагическая участь.
Асфодели, по древнегреческому поверью, – единственные цветы, растущие в Аиде. Асфоделями, широко распространенными в южной Европе, древние греки украшали саркофаги, могилы и урны.
Эта картина, как и все последующие, входит в состав пятого действия, над которым Гёте работал в разные годы (начиная с 1797 и кончая 1830 годом).
Филемон и Бавкида – имена мифологической древнегреческой патриархальной четы; престарелые крестьяне, они жили и трудились в неизменной дружбе и любви друг к другу. За радушный прием, оказанный посетившим их под видом странников олимпийцам, они были вознаграждены долголетием и единовременной смертью: их бедная хижина была обращена в храм, при котором они состояли жрецом и жрицей. Гёте назвал их именами героев своей лирической увертюры к заключительному действию «Фауста». – Странник, монологом которого открывается сцена, – отнюдь не олимпиец, а простой смертный, некогда воспользовавшийся гостеприимством престарелых супругов.
Гёте сказал однажды в беседе с Эккерманом: «Фауст, представленный в пятом действии, должен, по моему убеждению, насчитывать ровно сто лет. И я не знаю, не следует ли мне где-нибудь об этом высказаться точнее». Упоминание о глубокой старости дает основание думать, что чары, сообщившие молодость Фаусту, к этому времени утратили свою силу, однако об этом нигде яснее не сказано. Такой драматический прием был бы совершенно в духе гётевской эстетики. (Ср. Гёте в беседе с Эккерманом 18 апреля 1827 года: «Возьмем хотя бы „Макбета“. Когда леди хочет подвигнуть своего супруга на дело, она говорит, что „детей вскормила грудью“. Правда ли это или нет, неважно, но леди это сказала и должна была сказать, чтобы придать вес своей речи. Однако в дальнейшем ходе пьесы Макдуфф, узнав о гибели своих близких, кричит в дикой злобе: „Он-то (Макбет) сам бездетен!“ Эти слова Макдуффа противоречат, как видите, словам леди; но Шекспиру нет до этого дела… Ему важно быть наиболее действенным и значительным в каждую данную минуту».) Совершенно так же и Гёте должен был сделать Фауста старцем накануне его смерти, чтобы дать ему возможность вторично обрести вечную молодость в безгрешных объятиях «одной из кающихся», прежде называвшейся Маргаритой.
Согласно библейскому сказанию, царю Агаву казалось, что он ничем не обладает, покуда Навуфей еще владеет своим виноградником, расположенным вблизи царского дворца; напрасно он старается обменять его на лучший виноградник или купить за сребреники: жена Агава, царица Иезавель, ложно обвинила Навуфея в хуле на бога и на царя и тем добилась его избиения каменьями. Агав, подобно Фаусту, узнал об этом только после того, как несправедливое дело уже совершилось.
Речь Фауста, начинающаяся этим стихом, заставляет нас вспомнить знаменитый его монолог из первой части трагедии. Но в ней неудержимое стремление к познанию и совершенствованию перенесено из сферы абстрактного, умственного в сферу познания, неразрывно связанного с практикой: Что надо знать, то можно взять руками.
По средневековому поверью, люди слепнут от дыханья ведьм, колдуний, русалок.
Лемуры – по римскому поверью (в отличие от мирных ларов), замогильные призраки, дикие и беспокойные, иначе называвшиеся манами; здесь – мелкая нечисть.
Pater ecstaticus – отец восторженный; символизирует высшую степень самозабвенной погруженности в любовь к богу.
Pater profundus – отец углубленный (то есть глубоко проникающий в божественную мудрость).
Pater sеrарhiсus – отец серафический (ангелоподобный).
Хор блаженных младенцев – согласно мистическому учению Сведенборга, младенцы, рожденные в «час духов», в полночь; Pater seraphicus… согласно ремарке, принимает их (младенцев) в себя – мистический акт, о котором говорит Сведенборг: старшие духи «берут в себя» младших, чтобы те взглянули на мир их глазами.
(Ср. Гёте в беседе с Эккерманом от 6 июня 1831 года: «В этих стихах содержится ключ к спасенью Фауста».)
Doctor Маriаnus – доктор Марианус (то есть погруженный в молитвенное созерцание Девы Марии, Богоматери), почетный титул многих мистиков.
Мatеr glоriоsа – мать восславленная, Богоматерь.
Мagnа рессatriх – великая грешница (евангельская грешница Мария-Магдалина).
Mulier samaritana – евангельская «женщина из Самарии» у колодца Иакова. В беседе с ней Христос сказал, что он даст ей воды, испив которую, «уже не будешь жаждать вовек»; имеется в виду «вода веры», о которой поет и Mulier samaritana.
Maria Аеgурtiaсa (Acta sanctorum) – Мария Египетская. В житиях святых, на которые ссылается здесь Гёте, сказано о Марии Египетской, что она, долгие годы бывшая блудницей, решилась покаяться и пошла в церковь; незримая сила оттолкнула ее назад как недостойную грешницу, но Богоматерь чудесным образом снова перенесла ее во храм. После этого она ушла в пустыню, где прожила сорок восемь лет в покаянии и перед смертью написала на песке просьбу к монаху о христианском погребении и поминовении души.