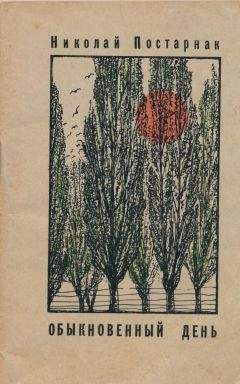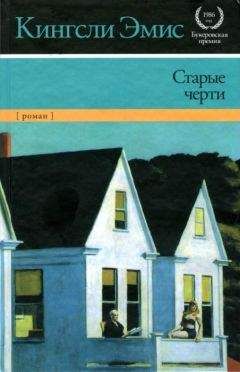ХУДОЖНИК
Снегами взята в белое кольцо
трамвая остановка кольцевая.
Февраль.
И стужа на одно лицо
прохожих лица перелицевала.
В канун сосулек
и в прилет синиц —
сутулость жестов, сумеречность лиц.
Поскольку нам вслепую, по пятам
холодного движенья не отринуть...
Но в самый раз зато
начать картину
«Прилет синиц. Большие холода».
Так он размыслил, человек хороший.
А размышляя, краски разминал.
Он валенки затем и к ним калоши,
как мелочь, на ботинки разменял,
И вышел,
на тепло рукой махнув,
так, словно бы на время промакнув
угрюмый хаос, выстудивший город,
над коим, через силу колоколя,
зашлись навзрыд осин колокола.
И млечным светом серого стекла
денницы свет — и нежен, и доверчив,
едва достигнув уровня деревьев,
из обихода утра был изъят.
Но ощупью почти, как бы незряч,
он оттенял и чествовал кончину
зимы, сошедшей все ж наполовину,
так, словно проследив первопричину,
округе разрешал он этот плач.
Однажды все обиды выплачь,
приникнув к косяку дверному,
до капельки всем бедам выплати
и настроению дурному.
Вглядись —
он пацаном чумазым,
твой хмурый день, красив и чуток.
Вот босиком проспектом вмазал
ушастый чудик.
Везьмет тебя твой день подножкой,
чтоб не ушиблен, —
обычного грузовика подножкой
чтоб был ожизнен.
Рекою самой синей масти
притормозит он,
твой добрый день,
твой умный мастер,
твой композитор.
Он вслед тебе помашет пристально
на прощанье.
И ты поймешь, что был он присказкой
и причастьем
к тому, что так красиво выпала
река тебе, что позабыты
твои горчайшие обиды
и беды, что вчера ты выплакал.
Мне сегодня звонят, звонят.
И летят голоса в зенит...
Вы, друзья, оставьте меня.
Ты, красивая, не звони.
Время движется. Вечер тих.
И единственная строка
Без обмана уходит в стих
Из потемок черновика.
Я ее отдышал: «Живи
Плотью пашен, теплом полей,
А когда не хватит любви,
Умереть по-людски сумей...»
Шел я городом. Дождик шел,
Крыш остукивал позвонки...
Все я выдумал про звонки.
Никакой строки не нашел.
Просто шел посреди светил
Городских. На исходе дня
Друг старинный, о ком забыл,
В толчее окликнул меня.
Мир становится осязаемым,
геометричным и сообразным —
мы взрослеем.
Но зачем же тогда
слетаются не однажды
на свет наших зеленых полуночных ламп
(или сиреневых, или голубых)
все бабочки детства, бесполезно погубленные
нами
в нашем давно-давно?
Но зачем же тогда не однажды
хочется приподнять черствый ли,
набухший ли дождями клинышек земли,
как резиновый клинышек двухцветного мяча,
понапрасну испорченного нами
в нашем давно-давно,
приподнять и посмотреть — а что там, внутри,
Или же зачем не однажды
хочется прильнуть колкой щекой
к старой коричневой яблоне,
столько раз ограбленной нами
в нашем давно-давно, —
стыдно попросить хоть одно яблочко.
...Мы идем не однажды
веселой аллеей откровений и истин
наших давно-давно.
И становятся резче
мысли задуманных нами стихов,
и прекрасней проекты задуманных зданий.
Сегодня постучался в окна моих очков
белый-белый, добрый-добрый
мотылек.
1
В забытом,
в прошлом,
где степей страницы
листает ветер,
за черным Чехраком
лежат моих прапрадедов станицы,
землею почерненных чумаков.
Они ушли,
не зная революций,
дорогами, сожженными огнем копыт...
Мне слышится — степные песни льются.
И ночь храпит.
И каганец коптит.
И он,
которого лишь по музеям знаю,
в медвежью шкуру завернувшись глубоко,
грустит по мне.
В его зрачках тоска глухая.
В его живых зрачках
тупая боль веков.
Но прорезается
и у виска стучится
мысль,
до бунтарства жгуча, высока...
Вселенная созвездьями струится.
Скользят планеты по его щекам.
2
Николай.
Ни кола, ни двора.
Только дымное эхо костров.
Только буйное эхо подков.
Черноморская злая бора.
Только смутное эхо веков, —
сладость соли и табака.
И сидят у огня чумаки.
Бородаты. На песню легки.
Нет у них ни кола, ни двора,
— Николай, — говорят, —
нам пора.
Наша воля, куда нам пора.
Хоть до Стенькина та-бо-ра.
От России
до скифских могил
затерялись вы, предки мои.
Мое имя от вас —
Николай.
Ни двора не хочу,
ни кола.
3
Судьба нам прочила, пророчила
недоброе и нерезонное...
Пальто демисемисезонное
семью ветрами оторочено.
Навстречу мне клекочут лебеди
над тундрой,
над моею Летою.
Но кличет степь ковыльным лепетом:
— Ах, лепо ли?.. Не лепо ли?..
Не лепится судьба?
Нелепица!
Земля сама навстречу вертится.
И — ни кола нам.
И — не встретиться.
Своя у вас, другая летопись.
И — ни двора.
В дорогу верится.
И новым смыслом песня полнится.
И где-то впереди заветрено
то слово, что насущно молвится.
Я к тебе войду не постучав,
попрошу напиться.
Хрупкая соломинка луча
вслед за мной скользнет по половицам.
И войдет со мной в твое жилье
запах дыма,
горький привкус хвои...
Расскажу тебе я о своем
песенном, тревожном непокое.
И тебя за тридевять земель
уведу по клавишам паркета
в область ту, где не бывает лета,
где моих бессонниц карусель.
Где во все границы — ледостав.
Где любовь моя — во все границы.
...Далеко-далеко города
от моей полуночной столицы.
Солнечно. Сонно.
Медленный вдох
с выдохом леса перемежается.
Перемещается облако в дождь.
К сердцу бережно принимая
лесотень,
светосинь,
начинаю
этот день
под синичью морзянку «тинь-тинь».
Островной государь,
лес уводит лосиной тропой, —
отрывной календарь
над распахнутой чьей-то судьбой.
Отмахнусь ли
от наплыва березовых струй,
как от чистого говора струн
потревоженных гуслей.
И у сосен ростральных,
где глухарь, где добыча легка,
боль свою не истрачу,
как зазря не затрону курка.
Говорун и молчальник,
повстречавшийся мне на пути, —
окаянный маячник,
ты по сердцу меня рассуди:
то ли так одичал я,
то ли стал я к себе же добрей,
то ли это — начало
самой истинной жизни моей.
Адским кашлем пушки изошли.
43-й. Бронзовеют лица.
Это страшно — прахом раствориться,
чтоб глаза цветами проросли.
Это зябко — в те цветы глядеть,
как в друзей невозвратимых лица...
Каска проржавевшая.
Надень.
Лютик твой нелеп уже в петлице.
И уже ты старше двадцати,
строже двадцати на 43-й.
И уже тебя мне не спасти
если вдруг ты упадешь, прострелен,
как солдат,
которому была
так необходима каска эта.
А в долине полдень.
Добела
даль крахмалит сопки вешним светом.
Мы молчим с товарищем моим.
А на вербах розовеет завязь.
У бойниц о павших говорим,
о дождях дремучих над Рязанью.
Мы запомним: вербами прошит
дота череп.
Воскресенье, Зоннтаг...
А на запад, выверив по солнцу
азимут,
геологи прошли.