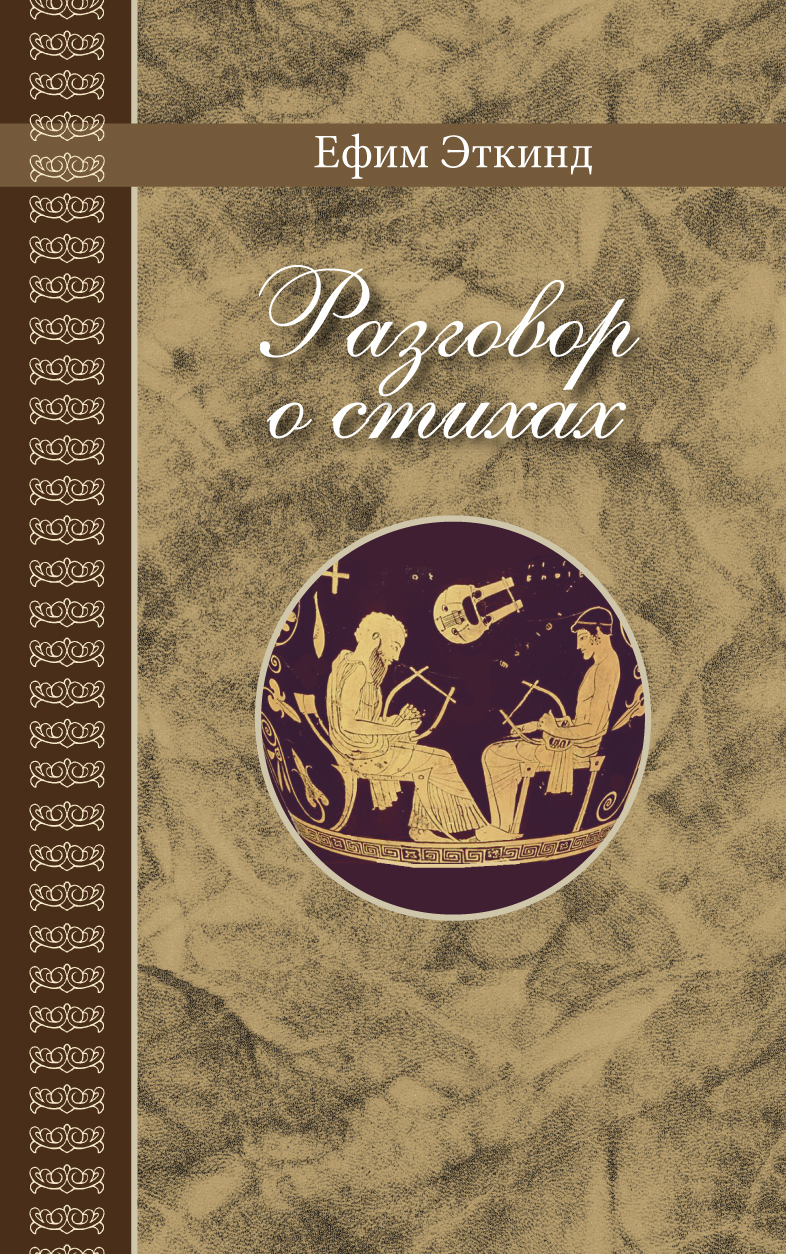литературный подвиг Заболоцкого, поступок отчаянного храбреца».
Надеюсь, эта пространная цитата поможет читателю «Разговора о стихах» ощутить ту «исследовательскую перспективу», к которой взывает чуть ли не каждая страница книги. И оживить ту любовь к поэзии, которая и вырастает из внимательного, чуткого чтения.
Стихи Заболоцкого оказались последними стихами, которые я услышал из уст Е. Г. Эткинда: так случилось, что в последний вечер, проведённый вместе, мы читали именно Заболоцкого. Было это в самом конце сентября 1999 года. Потом мы расстались, Ефим Григорьевич улетел в Германию, а в ноябре его не стало. Узнав о его кончине, я вспомнил эпизод из моей ранней юности – тогда, в августе 1968 года, случились два события, удивительным образом совпавшие и навсегда соединившие в моём представлении два далеких понятия – поэтику и политику. Было это в Ялте, во время летних каникул, из которых меня вырвала пухлая машинопись: Ефим Григорьевич Эткинд, работавший в ялтинском Доме творчества писателей, показал мне свою только что написанную книгу «Разговор о стихах» и сказал: «Прочти и скажи, что думаешь».
Первые впечатления запоминаются: оказалось, о самых сложных проблемах стиховедения можно говорить не просто увлекательно, но так, что этот разговор становится судьбой. Слово «судьба» тогда висело в воздухе. Там, в Ялте, 21 августа мы включили спидолу и сквозь завывание глушилок различили знакомую интонацию Анатолия Максимовича Гольдберга: Би-би-си сообщала о советских танках в Чехословакии. «Ну вот, – сказал Ефим Григорьевич, – начинается судьба…»
Теперь, перечитывая «Разговор о стихах», я всякий раз вспоминаю набережную в Ялте, папку с машинописью и слова, которые мне хочется передать «по кругу»: «Прочти и скажи, что думаешь».
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полет –
И в самом буйстве дерзновений
Змеиной мудрости расчет.
Ф. Тютчев, 1840
Как ни странно сказать, а художество требует еще гораздо большей точности, précision, чем наука…
Л. Толстой, 1908
Эти наивные люди не знают, сколько требуется времени и усилий, чтобы научиться читать. Мне понадобилось на это восемьдесят лет, а все же я и сей час не решусь сказать, что достиг цели.
И. В. Гёте – Эккерману, 25 января 1830 года
Есть люди с превосходным слухом, которым внятны еле уловимые шорохи и шелесты, – однако они чужды музыкальной восприимчивости. Иногда они даже петь умеют, даже танцевать любят. Но симфония Бетховена или фортепьянный концерт Рахманинова навевают на них неодолимую скуку. Почему так – вопрос особый. Пытаться им растолковать музыку – безнадёжно. То, чего они не слышат, они, скорее всего, и не услышат, сколько им ни объясняй, что такое контрапункт или каковы законы классической гармонии. Воспитать в них музыкальность, конечно, можно, но это дело долгое и трудное.
Есть люди с отличным зрением: они без всяких очков видят самые мелкие буквы на таблице, висящей в кабинете врача-окулиста, однако они равнодушно проходят мимо полотен Петрова-Водкина или Ван Гога, ничего не видя в картине, кроме сюжета, и ничего не испытывая, кроме холодного раздражения. То, чего они не видят, они, скорее всего, так и не увидят, сколько бы экскурсовод ни объяснял им колорит картины и её композицию. Когда-то Тютчев говорил о людях, для которых окружающий мир природы нем и мёртв:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах!
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звезда́х нема была!
Не для таких читателей написана эта книга. Она покажется им непонятной, трудной, да и ненужной.
Она и в самом деле нелёгкая. Но тот, для которого стихи существуют, преодолеет некоторые трудности чтения и, может быть, потом увидит в стихах больше, чем видел до того.
Потому что настоящие стихи многослойны. Их можно воспринимать по-разному, с меньшей или большей глубиной понимания. В сущности, они на это и рассчитаны: каждый получает от поэзии то, что он способен от неё взять. Это зависит от многого: от уровня образованности читателя, от объёма его жизненного и душевного опыта, от возраста, наконец, от чуткости и одарённости.
Нельзя сказать: «Это стихотворение я уже прочитал». Стихи можно читать сотни раз, каждый раз открывая их для себя, обнаруживая неведомые прежде глубины смыслов и новую, не замеченную доселе красоту звучаний. Лирический поэт рассказывает о себе, своей любви и своём горе. Но рассказывает он так, что требует от читателя сотворчества. Читатель как бы становится на место поэта и говорит его словами, его ритмами о собственной жизни. Поэт приобщает вас к своему опыту, но его опытом вам не прожить, если у вас нет собственного. Стихи останутся рифмованными строчками – звучными, прекрасными, но всё же строчками, то есть словесностью, если вы не сможете обогатить их своими переживаниями.
Это относится не только к лирике – философской, любовной, пейзажной, – но и ко всякой поэзии, даже такой, которая на первый взгляд кажется доступной для всех, от велика до мала. Начнём с простого примера. В 1831 году В. А. Жуковский перевёл балладу Ф. Шиллера «Кубок» (Der Taucher, 1798), которая с тех пор стала любимым чтением романтически настроенных подростков. Сюжет её такой: царь бросает в клокочущее море золотой кубок и призывает рыцарей найти его в пучине; наградой смельчаку будет кубок. Юный паж кидается в волны; когда уже никто не верит в его спасение, он выплывает, а затем повествует царю о неведомых глубинах, откуда ещё не возвращался никто. Увлечённый рассказом, царь вторично посылает юношу в морскую стихию, суля ему алмазный перстень. За пажа вступается царевна, тогда царь обещает смельчаку ещё и руку дочери. Паж безоглядно бросается в бездну – и на этот раз гибнет.
Мальчик лет десяти-двенадцати читает «Кубок» затаив дыхание. Его покоряет и бесстрашие пажа, который в ответ на призыв царя выступил вперед «смиренно и дерзко»; и фантастические ужасы морского дна, о которых с таким красноречием рассказывает юноша:
И смутно все было внизу подо мной
В пурпуровом сумраке