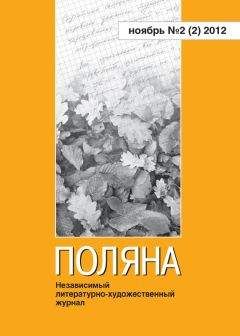Независимый литературно-художественный журнал «Поляна» ноябрь № 2(2) 2012
Лариса Миллер. Живу у Господа в горсти
Живу у Господа в горсти,
Где бремя лет легко нести.
Земли почти что не касаясь,
Живу, того лишь опасаясь,
Что ночью иль средь бела дня
Всевышний выронит меня.
Почему не идешь по холмам и по чистому полю
Почему не уходишь, когда отпускают на волю?
Почему не летишь, коли отперты все ворота?
Почему не идешь по холмам и по чистому полю,
И с горы, что полога, и на гору, ту, что крута?
Почему не летишь? Пахнет ветром и мятой свобода.
Позолочен лучами небесного купола край.
Время воли пришло, время вольности, время исхода.
И любую тропу из лежащих у ног выбирай.
Отчего же ты медлишь, дверною щеколдой играя,
Отчего же ты гладишь постылый настенный узор,
И совсем не глядишь на сиянье небесного края,
На привольные дали, на цепи неведомых гор?
Я вхожу в это озеро, воды колыша
Я вхожу в это озеро, воды колыша,
И колышется в озере старая крыша,
И колышется дым, что над крышей струится,
И колышутся в памяти взоры и лица.
И плывут в моей памяти взоры и лики,
Как плывут в этом озере светлые блики.
Все покойно и мирно. И – вольному воля —
Разбредайтесь по свету. У всех своя доля.
Разбредайтесь по свету. Кочуйте. Живите.
Не нужны никакие обеты и нити.
Пусть уйдете, что канете. Глухо, без срока.
Всё, что дорого, – в памяти. Прочно. Глубоко.
Ослепительные дни
Длятся, не кончаются.
Маков яркие огни
Там и сям встречаются.
Рябь в глазах от пестроты
И от разных разностей…
Отложи свои труды,
Умирай от праздности.
День сверкает точно брешь,
Мысль течёт ленивая,
Грушу спелую заешь
Столь же спелой сливою,
И следи полёт шмеля,
Иль следи за бабочкой,
Или как плывёт земля
Вместе с этой лавочкой.
Высота берётся с лёту.
Не поможет ни на йоту,
Если ночи напролёт
До измоту и до поту
Репетировать полёт.
Высота берётся с ходу.
Подниматься к небосводу
Шаг за шагом день и ночь —
Всё равно, что в ступе воду
Добросовестно толочь.
Высота берётся сразу.
Не успев закончить фразу
И земных не кончив дел,
Ощутив полёта фазу,
Обнаружишь, что взлетел.
Проживая в хате с краю,
А вернее, на краю
Чёрной бездны, напеваю:
Баю-баюшки-баю.
Дни под горку, как салазки,
Скачут быстро и легко.
Баю-бай, зажмурим глазки,
До конца недалеко.
Повороты, буераки,
Кочка, холмик, бугорок,
И стремительный во мраке
Прямо в бездну кувырок.
Впрочем, я ведь не об этом:
Я про быструю езду,
Про мерцающую светом
Неразгаданным звезду.
Михаил Садовский. Как хотела мама…
Господь не хранит своего добра – не бережет людей. Создал он тварь себе подобную, расплодилась она без меры и забыла про него. Тут он ожесточился, и, хотя не к лицу бы вроде, Всевышнему да Всесильному, мстить стал… а то как понять, что допустил он такое: огородил колючкой кусок города, вышки с пулеметами по углам воздвиг, согнал туда людишек, народ свой избранный любимый, и убивать стал…
И Венчик угодил туда – за проволоку, в гетто. Когда война началась, пять ему сравнялось. Росточком не вышел, да другим взял: писать, читать, лицо воспроизвести карандашом с натуры, стих с одного маху запомнить – делать нечего! Шустрый мальчишка получился! А когда стали уводить навсегда из-за проволоки на вечную волю, взмолилась Фира, мать его, Господу своему всесильному, чтобы спас он сына ее, проявил мудрость и силу. Не за себя просила, не о счастье хлопотала, о самом простом, что миру завещано: о жизни. И смилостивился Всевышний, надоумил простым советом: собери, мол, золотишко, какое достать сможешь, и не устоит человек перед ним, что попросишь – сделает, тварь, мною созданная. Так и вышло! И то сказать: нация гуманистов на страну пришла, как бывало, княжить хотела, вот и натянула колючку да столбы поставила, а сквозь ворота, где Ганс стоял, раз в неделю Степана пропускала в гетто, водопроводчика с тележкой, на которой пакля да обрезки труб, краны с ключами разводными, тройники, угольники, да банка с солидолом… народа-то много в домах осталось! Это ведь сказать просто – убить, а когда их столько? Тяжелая это работа! Доставалось гуманистам… а пока не перемерли все и в ров не легли, ими же самими выкопанный, их кормить да поить надо – ясное дело… а иначе только хлопоты лишние, если эпидемии да мор поголовный – совсем не справишься…
Ну, как предрек Господь, так и вышло: загрузил Степан-водопроводчик Венчика в тачку свою, набросал сверху пакли да концов нитяных – с виду тряпье и тряпье. Высыпал он Гансу у ворот половину золотишка, что Фира в платочке незаметно ему в карман сунула, и вывез мальчишку по Немиге до Комсомольской, а потом свернул вниз, докатил до улицы Горького, благо мальчишка крошечный да и под уклон дорога, а там завез во двор и остановил по-тихому: «Вылезай, пацан, прибыли! Как обещал я матери твоей, вывез я тебя за проволоку, а дальше сам ступай, уж какая судьба тебе жидовская выпадет, один Бог знает! Вот и ступай с Богом. Все».
Чего судить его? У самого трое в избе неподалеку сидели – их ведь тоже поить-кормить, спасать надо! А этого пришпилишь к ним – всем конец! Сразу гуманисты дознаются, что чужой, приблудный он – больно уж смугл да черняв у Фиры мальчишка вышел… как она сгинула, в каком рву лежит – никто не скажет, много тысяч их там, пробитых пулями, собралось вместе… а Бенчик…
Помнил крепко мальчишка, что сказала мама ему напоследок главное: «Людей бойся! Хоронись от них!» Помнить-то он помнил, а как прожить без людей, не знал, не умел еще… вот он сидел и думал об этом в подвале разбитого дома.
Было не холодно. Краюха за пазухой (еще мамина) смешно щекотала кожу. Звезда проглядывала в какую-то дырочку сквозь гору кирпича и ломаных досок и, когда он чуть сдвигался, подмигивала ему: «Держись, Бенчик! Мать не подведи! Умишком-то шевели, и все получится!»
На третий день, когда стемнело и наползли тучи, он выбрался из развалин и пошел в сторону леса, что начинался через поле сразу за городом, и, когда добрался до него, тихо побрел по опушке. За кустами его мудрено было заметить, хоть локтями мерить, хоть вершками, а и метра в нем не было. Он старался не заблудиться и все время выглядывал какой-нибудь огонек в той стороне, откуда ушел, а в городе всегда ну один-то фонарь да найдется, даже в таком, на который опустился мрак европейского гуманизма… Бенчик старательно обходил окраину, чтобы войти в город с другой стороны… было сыро, черное небо, черная земля, черный лес, отгородивший мир, и желток в этом однообразном цвете, еле уловимый желток, за который он держался взглядом, чтобы идти по кругу…
Когда стало сереть, Бенчик устроился на узловатых коленях старой сосны, чуть углубившейся в чащу. Он свернулся калачиком, уткнул нос за полу, осенние листья бесшумно опускались на его серое ворсистое пальто, один умудрился даже протиснуться за хлястик с одной оставшейся пуговицей, прикрыть ее своей желтой ладошкой и выставить вверх черенок, как часового, но напрасно – даже в двух шагах нельзя было распознать что-то живое в этой куче тряпья, забросанной листьями…
Пробудился он только к вечеру, как бывалый лесной зверь, выдвинулся снова к опушке и потянул носом воздух – пахло печным дымком, сыростью лежащего перед ним поля и необъяснимым ночным предзимним холодом. Крыши крайних домов чуть поднимались над горбом земли – он уже знал, что она круглая, и, если вот так, как он, брести все прямо, прямо и прямо, то обязательно вернешься в то место, откуда ушел…
Бенчик тихонько поднялся на три ступеньки и постучал в дверь. Огонек в окне за занавеской поплыл в его сторону, потом исчез, скрипнула где-то внутри другая дверь, в щели у косяка пошевелился желтый лоскут огонька, и послышался сиплый голос:
– Хто там?
Бенчик сильно напрягся, чтобы выдавить звук, ведь он не разговаривал уже три дня… только во сне с мамой…
– Дядя, я один… откройте… – Ответа не последовало, и он продолжил, – Правда, один… кушать хочется… – Огонек погас, но мальчишка не успел расстроиться, дверь чуть приоткрылась и зрачок мелькнул в щели, ясно было, что взгляд не мог нашарить просившего! Бенчик опустился на одну ступеньку, чтобы дверь могла распахнуться, и теперь его голова чуть возвышалась над полом крыльца… – Я тут, – тихонько шепнул он, боясь, что спасение снова скроется. Дверь чуть приоткрылась на голос, и неодолимо высоко в проеме появилось лицо в туго обтягивающей косынке. Женщина опустилась на корточки, высунула голову и одно плечо, внимательно окинула обозримое уже темное пространство, протянула руку, молча ухватила мальчишку за воротник и потянула к себе. Так она и вела его сквозь темные сени, держа в другой руке лампу с прикрученным фитилем, которая не производила никакого света, кроме желтого круга на щелястом низком потолке.