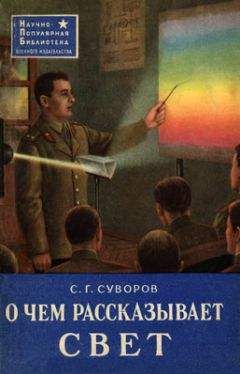«Доктор Пачини вошел в хлев…»
Доктор Пачини вошел в хлев и кормил людей, пришедших из размалеванных вывесками улиц. Потом он шел в интеллигентное сияющее стекло двери.
И пока он был комодом и переживал новизну улицы, весны, и ветерка, и талого снега.
И он стал белой башней. Розовые лучи грели его бока, точно вся весна льется в эти ворота.
— А мне ничем сегодня не пришлось быть, кроме дурного блестящего сапога.
«Вы недовольны жизнью?..»
— Вы недовольны жизнью?
— Жизнь для меня узка. Везде заборчики, да решетки понагорожены, душно, темно.
— Свету хочу яркого, воли, — а нет воли и света солнечного, так пожара хочу, чтобы все заборчики да курятники человечий позагорелись.
— Гм!.. и с теми, пожалуй, кто живет в них, — а кто будет новое на место строить — Вы?
А без курятников новая жизнь обойдется.
Ефим № 6. — Этот господин хочет обойтись без людей, без построек, без заборов и цивилизации.
— Мы вам поможем в этом.
Новый пациент говорит, что ему узко и напротив курятник. Мы боимся, что припадок возобновится.
Пациент № 5. Опять уверяет, что гиацинты на клумбе — цветы его жены, и плачет.
— Пересадите его против курятника, а № 6 — против гиацинтов, т. е. против пожара.
Сторож в недоумении.
— Ну да, т. е. вообще против гиацинтов, а того поближе к курятнику.
— Ах сударь, но ведь ее нельзя было спросить. — У нее сломана шея.
— Сломана шея? Но это значит было плохо устроено.
— Плохо устроено?
— Ну да, в противном случае это на самом деле очень освежает и заставляет нас чувствовать себя высоко над прочими людьми и обстоятельствами.
— Мы, очевидно, не понимаем друг друга.
(отрывки)
«И разом сарматские реки,
Свиваясь холодной дугой,
Закрыли ледяные веки
И берег явили нагой»…
Вступление
Едут полководцы. Впереди Архангел Петр Великий на дородном рыжем коне, упершись рукою в колено. Горнисты играют поход. Дороги извиваются под копытами коней как змеи. Расступающиеся горы отражают звуки музыки и ржанье городов, бегущих по сторонам войск. Медленно.
Трубы: вздыхают.
Вдоль по небу выкован Данте,
Но небу вовеки не сбросить
На марша глухое andante
Одёжь его красную проседь.
Флейта одиноко взлетает вверх.
Чужое гремящее слово!
Чужое суровое имя!
Здесь, где кругозор не изломан,
Все крючьями рвите кривыми.
* * *
Города набегают и смешиваются с войском. Общее медленное движение вперед. Музыка.
И в свивах растерзанных линий
Запела щемящая давка,
Как тысячеструнных румыний,
Сердец, покачнувшихся навкось!
То взора томителен промах.
То сердце отгрянувши ухнет.
А сколько отпущено грома
В замок запираемой кухни!
И — небо похитивших лужиц
Зубенками жадно проляскав,
Как глаз закатившийся, ужас
Дрожит где-то шумною пляской.
Жители перепутались с солдатами. Установлены патрули. Общее упорное движение продолжается. Флейты визжат предостерегающе.
Кто прямо пройдет через площадь
Под улиц скрипичные пытки —
Кидайся в лицо ему роща
И пулями глаз ему вытки.
Мелодия повышается секвенциями. Их лестница достигает вершины гор.
Упали осенние травы
Пугливого конского храпа,
И, ранена, Русская Рава
Качает разбитою лапой.
По ней тяжело грохоча взбирается рыжий конь. Паника, крики: Чудо! Чудо!
Полков почерневшая копоть
Обвешала горные тропы:
Им любо, им бешено топать
В обмерзшие уши Европы.
Пауза
Архангел Петр В. на вершине; как бы смотр уходящим войскам. Простирает руку.
Крик флейты:
Но разве я думал, но разве
Мне нужно, чтоб в пламенном теле
В раскрытой пылающей язве
Персты мои похолодели?
В молчании блещут штыки проходящих солдат. Архангел поднял трубу, возвещая Рождество. Город застыли строениями. Шум, снег, предпраздничная суета.
* * *
Театр военных действий. Окопы. Реки. Пушки. Дым застит окрестность. Сумасшедший поручик с саблей наголо и биноклем из двух пушек у глаз. По временам засовывает руку в карман и бросается вдаль горстями солдат.
Сумасшедший поручик.
Я был певцом и ученым,
Исследовал мирные дремы сил
Теперь я солдат и занят созвучьями грохота
Здесь страх нам щекочет каждый едва народившийся промысел
И умирает ребенком в дыму задыхаясь хохота.
И если забыты шестые чувства
За дней стекляшками тусклыми —
Вы будете знать одно лишь искусство:
Вцепиться в землю всеми мускулами.
А высадив судеб оконницы
На край крутой вселенской пропасти
Мы тащим, тащим миров покойницу
За бронированные лопасти.
Не здесь ли сладко пахнет порох
И — десять солнц небесной олыби
И лакомо скользят на взорах
Сверкающие сталью голуби?
Останавливается, ожидая ответа. Канонада. В исступлении бросается вниз с окопа. На минуту останавливается, указывая саблей на поле.
Смотрите: все слова осумашедшевели
Прикинулись мертвыми, но крикнули вдруг: Ура!
И мы из боя отошед шевелили
Изломанные кивера!
Падает убит. На место его прапорщик со знаменем. Влезает на окоп штатский господин как ящерица. Наклоняется над поручиком. Трясет его за плечи.
Штатский господин.
Позвольте! Эй вы! Да ведь сами же вы!
Слышите! Канта и Гегеля?
А теперь от ужаса замшевый
Валитесь как мертвая кегля!
И вообще, что вы можете предъявить умирая
Кроме паспорта и манжет?
Или вы может быть о кущах рая
Мечтаете тайком, как подобает ханже?
Пусть он сказал: «Мы будем оба там!»
Но каменный кремль ваш — игрушка
Его любая сдунет хоботом
Благовоспитанная пушка!
Право же пора изменить понятия
И занятия эти
И откуда у вас радость рокота
Какой живучий!
Я ведь, собственно доктор.
Мертвый патриотический поручик.
Не мучай!
Неужели в домах за хатами
В колясках, в песнях, на постелях
Не снова стали все солдатами
Одним ружьем в потемки целя.
Штатский.
Да что вы! Право же вы в пафосе.
Говорите как собственный корреспондент.
По-вашему теперь не правы все
Должны были таскать повсюду
Гражданских чувств сырую груду.
Танцует.
Там стороны света — все те же четыре
Одежды и ветры — все те же, все те же
Под выгибы танца, под ропот псалтыри
Вы будете сниться все реже и реже.
Мертвый поручик.
Когда как камень летит Россия
Не помнить чести, не мерять мести
Да что сильнее и что красивей
Когда как камень летит Россия!
Штатский господин.
Ну вот, ну вот у вас разжижение крови
Надо ее ссыворотить
Полно усы воротить
И хмурить брови.
Ланцетом вскрывает артерии. Пробует капельку на язык, недовольно крутит головой, чихает.
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче
(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 40 верст по Ярославской ж. д.).
В сто сорок солнц закат пылал
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И, день за днем,
ужасно злить,
меня
вот это
стало.
И, так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты.
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо
чем так,
без дела, заходить
ко мне
на чай зашло бы»,
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч — шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось,
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни,
впервые с сотвореньм,
ты звал меня?
Чаи гони.
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что-ж,
садись, светило!»
Чорт дернул дерзости мои
орать ему —
сконфужен
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло-б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась —
и степенность
забыв —
сижу, разговорясь
с светилом, постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй!
а вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи, то-есть.
Какая тьма уж тут!
на ты
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма,
под солнц двустволкой пала
стихов и света кутерьма —
сияй, во что попало!
Устанет то, —
и хочет ночь
прилечь —
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
вот лозунг мой —
И солнца!