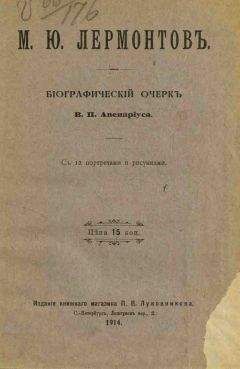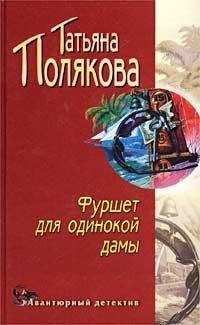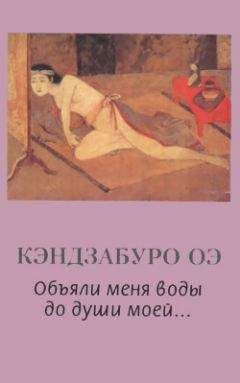Михаил Юрьевич Лермонтов
Аул Бастунджи
Тебе, Кавказ, – суровый царь земли —
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере в стране тебе чужой
Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!..
Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царстве урагана,
И принимал меня лелея ты
В объятия из синего тумана.
И я глядел в восторге с высоты,
И подо мной, как остов великана,
В степи обросший мохом и травой,
Лежали горы грудой вековой.
Над детской головой моей венцом
Свивались облака твои седые;
Когда по ним гремя катался гром,
И пробудясь от сна, как часовые,
Пещеры окликалися кругом,
Я понимал их звуки роковые,
Я в край надзвездный пылкою душой
Летал на колеснице громовой!..
Моей души не понял мир. Ему
Души не надо. Мрак ее глубокой,
Как вечности таинственную тьму,
Ничье живое не проникнет око.
И в ней-то недоступные уму
Живут воспоминанья о далекой
Святой земле... ни свет, ни шум земной
Их не убьет... я твой! я всюду твой!..
Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Закрыт от бурь и вольностью богат.
Его уж нет. Кудрявыми кустами
Покрыто поле: дикий виноград
Цепляясь вьется длинными хвостами
Вокруг камней, покрытых сединой,
С вершин соседних сброшенных грозой!..
Ни бранный шум, ни песня молодой
Черкешенки уж там не слышны боле;
И в знойный, летний день табун степной
Без стражи ходит там, один, по воле;
И без оглядки с пикой за спиной
Донской казак въезжает в это поле;
И безопасно в небесах орел,
Чертя круги, глядит на тихий дол.
И там, когда вечерняя заря
Бледнеющим румянцем одевает
Вершины гор, – пустынная змея
Из-под камней резвяся выползает;
На ней рябая блещет чешуя
Серебряным отливом, как блистает
Разбитый меч, оставленный бойцом
В густой траве на поле роковом.
Сгорел аул – и слух об нем исчез.
Его сыны рассыпаны в чужбине...
Лишь пред огнем, в туманный день, черкес
Порой об нем рассказывает ныне
При малых детях. – И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «Скажи,
Не знаешь ли аула Бастунджи?»
В ауле том без ближних и друзей
Когда-то жили два родные брата,
И в Пятигорье не было грозней
И не было отважней Акбулата.
Меньшой был слаб и нежен с юных дней,
Как цвет весенний под лучом заката!
Чуждался битв и крови он и зла,
Но искра в нем таилась... и ждала...
Отец их был убит в чужом краю.
А мать Селим убил своим рожденьем,
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают, преступленьем!
Он душу не обрадовал ничью,
Он никому не мог быть утешеньем;
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!..
Он рос один... по воле, без забот,
Как птичка, меж землей и небесами!
Блуждая с детства средь родных высот,
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один безбрежный свод;
Порой в степи застигнутый мечтами
Один сидел до поздней ночи он.
И вкруг него летал чудесный сон.
И земляки – зачем? то знает бог —
Чуждались их беседы; особливо
Паслись их кони... и за их порог
Переступали люди боязливо;
И даже молодой Селим не мог,
Свой тонкий стан высокий и красивый
В бешмет шелкòвый праздничный одев,
Привлечь одной улыбки гордых дев.
Сбиралась ли ватага удальцов
Отбить табун, иль бранною забавой
Потешиться... оставя бедный кров,
Им вслед, с усмешкой горькой и лукавой,
Смотрели братья, сумрачны, без слов,
Как смотрит облак иногда двуглавый,
Засев меж скал, на светлый бег луны,
Один, исполнен грозной тишины.
Дивились все взаимной их любви,
И не любил никто их... оттого ли,
Что никому они дела свои
Не поверяли, и надменной воли
Склонить пред чуждой волей не могли?
Не знаю, – тайна их угрюмой доли
Темнее строк, начертанных рукой
Прохожего на плите гробовой...
Была их сакля меньше всех других,
И с плоской кровли мох висел зеленый.
Рядком блистали на стенах простых
Аркан, седло с насечкой вороненой,
Два башлыка, две шашки боевых,
Да два ружья, которых ствол граненый,
Едва прикрытый шерстяным чехлом,
Был закопчен в дыму пороховом.
Однажды... Акбулата ждал Селим
С охоты. Было поздно. На долину
Туман ложился как прозрачный дым;
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.
Вдали тянулись розовой стеной,
Прощаясь с солнцем, горы снеговые;
Машук, склоняся лысой головой,
Через струи Подкумка голубые,
Казалось, думал тяжкою стопой
Перешагнуть в поместия чужие.
С мечети слез мулла; аул дремал...
Лишь в крайней сакле огонек блистал.
И ждет Селим – сидит он час и два,
Гуляя в поле, горный ветер плачет,
И под окном колышется трава.
Но чуть далекий топот... кто-то скачет...
Примчался; фыркнул конь, заржал... Сперва
Спрыгнул один, потом другой... что это значит?
То не сайгак, не волк, не зверь лесной!
Он прискакал с добычею иной.
И в саклю молча входит Акбулат,
Самодовольно взорами сверкая.
Селим к нему: «Ты загулялся, брат!
Я чай, с тобой не дичь одна лесная».
И любопытно он взглянул назад,
И видит он: черкешенка младая
Стоит в дверях, мила как херувим;
И побледнел невольно мой Селим.
И в нем, как будто пробудясь от сна,
Зашевелилось сладостное что-то.
«Люби ее! она моя жена! —
Сказал тогда Селиму брат. – Охотой
Родной аул покинула она.
Наш бедный дом храним ее заботой
Отныне будет. Зара! вот моя
Отчизна, всё богатство, вся семья!..»
И Зара улыбнулась, и уста
Хотели вымолвить слова привета,
Но замерли. – Вдоль по челу мечта
Промчалась тенью. По словам поэта,
Казалось, вся она была слита,
Как гурии, из сумрака и света;
Белей и чище ранних облаков
Являлась грудь, поднявшая покров;
Черны глаза у серны молодой,
Но у нее глаза чернее были;
Сквозь тень ресниц, исполнены душой,
Они блаженством сердцу говорили!
Высокий стан искусною рукой
Был стройно перетянут без усилий;
Сквозь черный шелк витого кушака
Блистало серебро исподтишка.
Змеились косы на плечах младых,
Оплетены тесемкой золотою;
И мрамор плеч, белея из-под них,
Был разрисован жилкой голубою.
Она была прекрасна в этот миг,
Прекрасна вольной дикой простотою,
Как южный плод румяный, золотой,
Обрызганный душистою росой.
Селим смотрел. Высоко билось в нем
Встревоженное сердце чем-то новым.
Как сладко, страстно пламенным челом
Прилег бы он к грудям ее перловым!
Он вздрогнул, вышел... сумрачен лицом,
Кинжал рукою стиснув. – На шелковом
Ковре лениво Акбулат лежал,
Курил и думал... О! когда б он знал!..
Промчался день, другой... и много дней;
Они живут как прежде нелюдимо.
Но раз... шумела буря. Всё черней
Утесы становились. С воем мимо,
Подобно стае скачущих зверей,
Толпою резвых жадных псов гонимой,
Неслися друг за другом облака,
Косматые, как перья шишака.
Очами Акбулат их провожал
Задумчиво с порога сакли бедной.
Вдруг шорох: он глядит... пред ним стоял
Селим, без шапки, пасмурный и бледный;
На поясе звеня висел кинжал,
Рука блуждала по оправе медной;
Слова кипели смутно на устах,
Как бьется пена в тесных берегах.
И юноше с участием живым
Он молвил: «Что с тобой? – не понимаю!
Скажи!» – «Я гибну! – отвечал Селим,
Сверкая мутным взором, – я страдаю!..
Одною думой день и ночь томим!
Я гибну!.. ты ревнив, ты вспыльчив: знаю!
Безумца не захочешь ты спасти...
Так, я виновен... но, прости!.. прости!..»
«Скажи, тебя обидел кто-нибудь? —
Обиду злобы кровью смыть могу я!
Иль конь пропал? – Забудь об нем, забудь,
В горах коня красивее найду я!..
Иль от любви твоя пылает грудь?
И чуждой девы хочешь поцелуя?..
Ее увезть легко во тьме ночной,
Она твоя!.. но молви: что с тобой?»
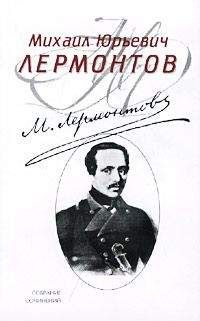
![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)