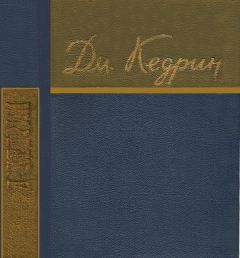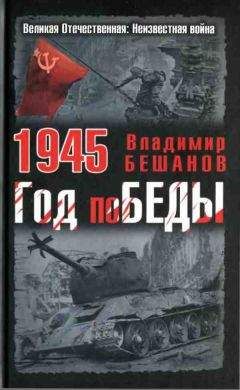Александр Решетов
Не в первый раз идти нам вдоль пустынной,
Вдоль отсверкавшей окнами стены.
Но перед неожиданной картиной
Остановились мы, поражены.
К стене в печали руки простирала,
Как бы ослепнув, женщина. Она,
Беде не веря, сына окликала.
Еще кирпичной пыли пелена
Казалась теплой
И на кровь похожей.
«Василий,
Вася,
Васенька,
Сынок!
Ты спал, родной,
Откликнись мне. О боже!»
...Из черных дыр оконных шел дымок.
Рыданьем этим, горем материнским,
Холодный день, обжег ты души нам.
А вечером
В полку артиллерийском
Мы обо всем поведали друзьям.
Кто под луной не вспомнил дымноликой
Родную мать?
Чье сердце нам верней?
Гнев наших залпов
Равен будь великой
Любви многострадальных матерей!
1942
Хлеб такой я знал и до блокады:
С примесью мякины и коры.
Ел его давно — у землепашцев,
Бедняков тех мест, где начал жизнь.
Чьей-то злобной, грешною издевкой
Над священным делом землепашца,
Над своим собратом человеком
Мне казался тот нечистый хлеб.
Как я ликовал, когда трещали
Стародеревенские устои,
Как негодовал, когда держался
Темный мой земляк за прежний хлеб!
Тот цинготный хлеб воскрес нежданно
В дни войны в голодном Ленинграде,
И такого маленькие дольки
Получали люди умирая.
Молодость моя, ты пригодилась —
Я в расцвете сил встречал беду,
Все превозмогая — боль и голод,
Как и все здесь, не жалел я сил.
Мне умелец мастер сделал зубы:
— Вам свои испортила блокада,
Этими вот ешьте на здоровье,
Хлебы нынче добрые у нас!
Я сегодня шел по Ленинграду,
Вспоминал расцвет свой ненапрасный,
Думал я о странах и о странных
Пасторах и канцлерах иных.
Им я говорю из Ленинграда:
Не кормите вы сограждан ложью,
Пощадите человечьи души,
Не сбирайте дурней сеять ветер,
Можем одолжить других семян.
Люди сеют рожь и кукурузу,
Люди сеют просо и пшеницу,
Люди ценят честные, без лести,
Словно хлеб без примесей, слова.
Целый день я сегодня бродил по знакомым местам,
Удивляясь тому, что их вижу как будто впервые.
Чуть вздыхала Нева, поднимаясь к горбатым мостам,
Вдоль проспектов цепочкой бежали огни золотые.
Летний сад за решеткой качался в сырой полумгле,
Чуть касалось щеки дуновенье просторного оста,
И разбрызгивал лужи трамвай, отражая в стекле
Клочья розовых туч да иглу над громадою моста.
В этот вечер откуда-то хлынула в город весна,
Рассекая все небо полоской зеленой и красной.
И сверкала на Невском, шумела толпой сторона,
Та, которая прежде была «при обстреле опасной».
1945
Вдоль Невского автобусы гудели.
Лилась толпа. Игла была ясна.
Кто помнил, что когда-то при обстреле
Была опасна эта сторона?
Теперь здесь все привычно и знакомо.
Но задержись, хотя б на краткий миг,
Перед плитой на сером камне дома
И огненным под ней пучком гвоздик.
Кто положил их? Ленинградец старый,
Бывалый ополченец грозных дней?
Вдова, вся в черном? Юноша с гитарой?
Или студентка с челкой до бровей?
А может быть, девчушка, галстук красный
Наследница и горя, и побед —
Стояла здесь, на «стороне опасной»,
И слушала, что говорил ей дед?
Текло с Невы дыхание прохлады,
Витринами сверкал обычный дом
Перед притихшей внучкою Блокады,
Которой все казалось только сном.
И ярче, чем снарядов посвист дикий,
Давно похороненный в тишине,
Пылали победившие гвоздики
На этой солнцем залитой стене.
Если ваше детство тоже пробежало
Переулком Ляминым в Детское Село,
Если переулок Лямин
И для вас, как тихий голос мамин, —
Вы поймете острой боли жало,
Что в те дни в меня вошло.
По садам, где каждую ограду,
Каждый кустик знаю наизусть я,
Ходит хлюст особого отряда,
Хлыстиком сбивая этот кустик.
Снится мне осадными ночами
Старый парк мой, весь заросший, мшистый,
Статуи с закрытыми очами,
Не глядящие в глаза фашиста.
Старые Дианы и Цирцеи,
Детство мне взлелеявшие, где вы?
Не стоит под аркою Лицея
Мститель, задохнувшийся от гнева.
И когда заговорили пушки
Самыми родными голосами,
На рассвете я входила в Пушкин,
Он еще дымился перед нами.
Но уже не девочка входила
В порохом покрытые владенья
Снегом припорошенных полян —
К женщине с седыми волосами
Подполковник Тихонов склонился:
— Вам нехорошо? Не надо плакать,
Стыдно же, товарищ капитан!
— Нет, мне хорошо, но мне не стыдно,
Разрешите, пусть они прольются.
Слишком долго я копила слезы — потому и стала я седой.
Не могу о тех я не заплакать,
Кто со мною в Пушкин не вернется,
Из кувшина Девы не напьется,
К Пушкину на бронзовой скамейке
Не придет, — а я пришла домой!
1944
Огни на Ростральных колоннах,
Как факелы Мира горят.
Для граждан, в свой город влюбленных,
Их пламя прекрасней стократ.
И с этих высоких причалов
Нам многое стало видней —
И трех революций начало,
И отблески дальних огней...
Мы ведали высшее счастье —
Нет в мире сильней ничего —
Стать города малою частью,
Порукой и Верой его.
И много нас пало на склонах
Во имя твое, Ленинград!
Огни на Ростральных колоннах,
Как вечная память горят.
Горят маяки над Невою,
И кажется, ночь горяча,
Как будто в ней пламя живое
Отважной души Ильича.
И в светлую даль устремленный
Плывет, как корабль, Ленинград.
Огни на Ростральных колоннах,
Как факелы Мира горят.
В квартире за Нарвской заставой,
В шкатулке, невзрачной на вид,
Прижатый пехотным уставом,
Обломок рейхстага лежит.
Он взят из дымящейся груды.
В кармане махоркой оброс.
Его от Берлина досюда
Солдат-пехотинец принес.
И часто в победную дату,
Когда загрохочет салют,
Усталые пальцы щербатый
Обломок войны достают.
И, как недомолвка, повиснет:
— Тяжел ты, гранитный, тяже-е-л.
Ведь я за тобою полжизни,
А может, и больше прошел.
Каким-то чудом башня уцелела.
Немало испытавшая, она
На сотню лет, казалось, постарела,
И снег лежал на ней, как седина.
Изогнуты стальные ребра окон.
И, словно башни одинокий глаз,
Из полумрака, со стены высокой
Часы глядели черные на нас.
Враг отступил, дотла разрушив город,
Но не успел куранты увезти.
Их циферблат был пулями расколот.
Обломки стрелок стыли на шести.
Тогда по приказанью лейтенанта
Среди солдат нашли часовщиков.
И смастерили раненым курантам
Сверкающие стрелки из штыков.
Настало утро. Ход их равномерный
Проверил солнца вешнего восход.
Враг отступал. Часы ходили верно.
Мы шли на запад. Время шло вперед!