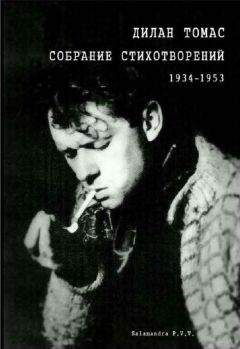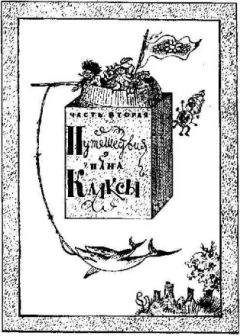Тот миг – он загнан в угол – миг желанья.
Сорняк он и никчёмное дыхание,
Отрепья, опий, лживый шаг вороний,
Зарифленные паруса, прибой
Без всякого прилива, вроде той
Злой девственности, взятой напрокат
У предков, миг тот, слабый, как ребенок,
Прилепленный магнитными ветрами
К слепой мамаше в городе беззубом
Дом хлеба и, быть может, молока...
Она глядит с невинностью крапивы
И с шелковистой той гордыней горлиц
В скалах, которым раковины девства
Как будто досаждали... Как в пещерке
Меж устриц – жемчуг, абрисы сирен
Сверкают в стянутых как бочки гротах,
Портреты всех ундин глядят со стен,
Дриада – дуб, заполненный стыдом,
И ложе, будто море под китом,
И бычий танец, золотой куст львов...
Гордыня девственности, обретенной вновь?
Желанья меньше, чем в зерне песка!
Старинные минуты, их тоска...?
Вот в чем противоречия ее:
Зверь топает как поп, и пять убийц
Есть каждая рука, а строй колонн,
На коих тлеет пламя, устремлен
Скульптуркой льда к толпе горящих птиц.
И все-таки желание холмом –
Приветствие, но в каменных шагах
Ее, в ее в молчании хромом
Таится тень ее удара в пах!
И я с ослиной челюстью иду
Пустыней мимо мертвых городов,
Бью воздух палкой бесполезных слов,
Громлю восход и в клочья рву закат,
Штурмую это сердце на ходу,
Пусть вены безголовые спешат,
Я ракушку пустой души вскрываю
И векам застегнуться позволяю.
Гром разрушенья вместе с криком птиц!
Перед той челюстью всё ляжет ниц,
Убийство – набежавшая волна –
Я вытянусь, чтобы смогла она
Смыть след разгрома... Вот меж волн плывет
Распятьем комната ошибок, вот
Все море – в стог! Тень от столба воды,
Вот пирамида надо мной, горды
На изумрудном полотне узоры,
И ветры остры. Голова моя
Лежит, лишенная легенд, в крови.
Самсон, и тот уж не спасет мой час,
В перчатках солнце – анатом любви –
Насаживает сердце на алмаз...
Ее язык не уследил за лоном,
Ребенок снова станет эмбрионом,
Так губы обнаженные кричали,
Канаты скручены, тень – капюшоном.
Тут якоря, тут долго пеленали
Меня, как мумию... «Где ж ящерка, чей яд
Выстреливает, чтоб загнать назад
На то столбнячное пустое ложе
За белую завесу смерть стихов? –
Бубнили маски, – видишь мертвецов?
Да, секса бесконечное кольцо
И душу завертело, и лицо».
Глаза прозрели. И ветра видений
Раздули дым. Бескожная рука –
Как дерево в клублении дымка,
Горящий Феникс обернулся стаей:
Щёлк выдранного зуба – барабан,
И хвост какой-то взвился, заметая
Следы птиц, улетавших в никуда,
А призрак провожал их, расцветая
Желаньем, жаждой нежного прощенья,
Ведь ужас отлетел и вместе с тенью!
Мой брат снял кожу. В облачной груди
Лежат леса спокойны и безмолвны,
От гордости любовь осовободи!
И вот любовь идет без ран и молний.
Утих и ветер (а давно ль стволы
Как волосы горгон, вздымал он дыбом?).
Там где был снег когда-то, острым льдом
Любовь сосет и лижет бледный воздух,
Предвидя проявленья новых ссор,
В ее глазах гордыни новой вздор,
Но этот стих – присутствие целебно!
47. ПЯТЬ ДЕРЕВЕНСКИХ ЧУВСТВ
Пять деревенских чувств увидят все всегда:
Зеленая ладонь им не родня, – однако
Сквозь мусор мелких звезд глаз ногтя увидал,
Что горсть моя полна звездами зодиака,
А уши видят, как любовь под барабан
Уходит в дальний гул ракушечного пляжа.
Семь шкур с нее содрал морозец-хулиган,
И раны нежные не затянулись даже,
И все ж она жива: ее хранит туман,
Ведь ноздри видят, как зима проходит мимо,
И рысий мой язык несет всех гласных крик,
А выдох – пламя купины неопалимой,
Свидетель сердца есть! Хранит бессонно он
Пути любви (по ним – лишь ощупью стремятся!),
И даже если все пять глаз охватит сон,
То сердце чувственным не может не остаться!
Над морем желтым и тяжелым
Мы на морском песке
Лежим и насмехаемся над теми,
Кто медленно плывет по зову вен,
Смеясь плывет по алой их реке:
Они выкапывают ямки слов,
И в слово тень цикады превращают.
Смертельна тяжесть моря и песков,
И надмогильный камень беспощаден.
Зов цвета к нам приходит с темным ветром
Желаньем ярким и тяжелым,
И тяжесть гравия подобна смерти,
И злое море кажется веселым.
Со всех сторон спит лунное молчанье,
И тени тихие, творя прилив,
Окутывают лунные каналы.
Творец прилива сух и молчалив,
Но он между пустыней и штормами
Излечит боль, рожденную водой,
В небесной музыке, звучащей над песками,
И монотонной, как покой.
Песок звучит печальной и тяжелой
Веселостью пустынных берегов,
А мы лежим на этой желтой, голой
Ничейной полосе - владении песков,
Следя за желтизной, желая чтобы ветер
Унес пески и утопил скалу,
Но как бесплодны пожеланья эти!
Не защититься от зовущей мглу
Багрово угрожающей скалы!
Лежим и наблюдаем желтизну,
Пока золотоносная погода
(О, кровь, еще играющая в сердце!)
Не уничтожит сердце и холмы ...
49. ЯЗЫКОМ ГРЕШНИКОВ, ЯЗЫКОМ ПРАХА
Языком грешников, языком праха к церквам колокол гонит,
Пока время с фонариком и с песочными часами,
Как поп, от которого серой несет,
На раздвоенных копытцах, торчащих из сандалий,
Горстью холодной золы поджигает придел, и в звоне
Горе выдергивает призрак из алтаря растрепанными руками,
И огненный ветер дует, пока свеча не помрет.
Когда над хоралом минуты слышится пение часа,
И водоворот вертит мельничные колеса молитвы,
И соленым горем замшелые склепы затапливает хорал,
И торопит миг лунопада император-солнце,
Бледный, как его же след на пене прибоя –
Слушай, как проваливается заведённый ключиком храм,
И как бьет корабельного тонущего колокола металл.
И темно, и гулко немое пламя в потонувшем храме.
Вихрятся снег и фонтан в фейерверковой крутени непогод,
И храм спокоен, и горе под колыхающимися свечами
С промокшей книгой в руках окрещает херувимские времена.
Изумрудным спокойствием колокол разбивает молчание:
Это из белых зимних протекающих страниц-парусов
Молитва флюгера, скрипящего птичьим голосом, слышна.
И так всегда. Этот белый младенец сквозь смуглое лето
Из купели костей и растений, под каменно ноющий набат
Появляется – и голубая стена призраков расступается,
И младенец – теперь уже празднично пёстро одетый,
Сбрасывая разодранный саван, выходит
Оттуда, где разбуженные колдовские насекомые
Дин-дон – из глубин умолкающих башен звенят.
Что же такое младенец? Это – и Стихотворенье, и Время.
Отлитый вечерним звоном нашей женитьбы шельмец,
Зачатый на пороге ночи в час тучных коров на звериной постели,
В священной комнате, на самом гребне волны.
И все грешники любви встают на колени перед явлением –
Ламинария, мускат и вербена,
к услугам жениха и невесты, принесших это горе –
Как все созидающие, оба они, творящие, обречены.
Дайте маску – скрыться от ваших соглядатаев ничтожных,
От фарфоровых этих зрачков, от очков-крючков,
Чтобы укрыть бунтарство за детской невинной рожицей,
Чтобы мой штык – язык – спрятать в келье под сводом нёба,
Чтобы звучали слова льстивой флейтой, извилистой ложью –
Только бы скрыть сверканье ума за приличием равнодушия
И обмануть, убедить в своей заурядности всех, лезущих в душу!
Так – с ресниц показное, вызванное белладонной, горе вдовцов
Прикрывает истинный яд
Тех, кто на самом деле глядит сухими глазами
На толпу хнычущих лицемеров,
На кривые усмешки, тщательно прикрываемые рукавами…
Шпиль церкви наклоняет голову: он – журавль колодца.