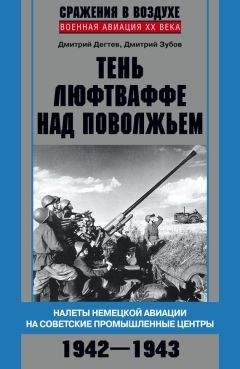Она хотела довериться пастору Ому, рассказать ему, куда она перенесла тело брата, — Ому по крайней мере не грозила опасность со стороны палачей и осквернителей. Эта мысль уберегла ее от раскаяния, хотя она никак не ожидала, что ее приговорят к смерти, и угроза генерального судьи потрясла ее. Чтобы страх снова не завладел ею, она заставила себя углубиться в ставшее уже сном воспоминание о той ночи десять дней назад. «Суд не верит, что вы одна доставили тело брата на Кладбище инвалидов!» — услышала она пронзительный от обиды голос генерального судьи. «Я и сама бы на их месте этому не поверила», — подумала она теперь с сарказмом, который на минуту оживил, почти развеселил ее...
По крайней мере внутренне, душой, она отвлеклась от стены и решетки, вырвалась из тюремной камеры и перенеслась на волю, вспоминая полоску земли на язычески древнем, давным-давно закрытом кладбище вокруг сложенной из валунов церкви, что в древней части города, почти рядом с университетом. Самые могучие королевские деревья Берлина вздымаются там выше всех соборов над редкими могилами минувших столетий. И одну из могильных плит, нерушимый щит упокоения, оплаканный дождем и снегом, изуродованный, словно... словно лицо матери в последний час, она предназначила стать могильной плитой для брата. Теперь она решила просить Ома перевести ей одно место из Библии, которое она с большим трудом разобрала там: «Деяния, глава 5, стих 29», — тогда как имя усопшего уже нельзя было прочесть ни глазами, ни на ощупь.
Сколько людей нашло там покой!
Из страха Анна выкопала не слишком глубокую яму. Большим ножом она аккуратно отделила толстый слой травы и мха, а ее настороженный взгляд всякий раз, когда она поднимала голову, падал на крыши горящих домов, словно в жерло печи. Весь Берлин с хаотической деловитостью спешил тушить пожары, и Анну увлек этот горячий водоворот, когда, сразу же после отбоя, она с ручной тележкой покинула двор университета. Об этом позднее и смогла вспомнить доносчица, соученица Анны. Фридрихштрассе, уже догорая, вздыбилась огненным смерчем к небу, будто полыхающее знамя опустошения. А тут, как мирный островок, отделенный морями от оргии яростного огня, лежало темное кладбище. Никто ей не мешал. Закрытая с улицы буйными кустами форзиций, а со спины — готическим склепом, она копала не спеша и бросала землю на брезент, которым до того было покрыто тело брата. Она даже не почувствовала напряжения, когда сняла тело с тележки и, приподняв еще раз, уложила в могилу. Но она избегала смотреть на искаженное лицо, потому что днем, когда она выбежала из анатомического театра, ее вырвало. Она покрыла брата своим плащом. От облегчения, а также и оттого, что именно теперь его надо засыпать навсегда, она разрыдалась — и потом она подумала, что ей уже не скрыться: ноги, юбка, руки были сплошь перепачканы влажной землей. Из последних сил она забросала могилу. Уж потом, когда, снова став на колени, она хотела положить дерн на прежнее место, ее осенила догадка, что после этой огненной ночи десятки тысяч жителей Берлина будут испачканы точно так же. И она решила не торопиться. Бережно убрала землю, остатком присыпала корни кустов и придавила мох руками. Прежде чем выйти с ручной тележкой на улицу, она огляделась по сторонам и подождала, пока мимо загрохочет грузовик, а метров через пятьсот она добралась до первого горящего дома; несколько поодаль двое из гитлерюгенда потребовали у нее пустую тележку, уложили туда чемоданы, корзинки, а сверху усадили бившуюся в истерике женщину, которую они вытащили из подвала в полной сохранности. Анне они обещали доставить тележку завтра к главным воротам Кладбища инвалидов, а лопату и брезент она забросила в дымящиеся развалины. Позднее она нашла кран, с которого пожарники только что отвинтили шланг, и вымыла руки, лицо и ноги. А позади нее уносили трупы. Она бросилась прочь от разрушенных улиц, желая укрыться у Бодо, охваченная мучительной жаждой жить, чтобы забыть эту жизнь.
Анна охотно описала бы ему все это теперь, когда страх опять согнал ее с нар, а четыре квадратных метра камеры вдруг съежились и ушли из-под ног, словно люк под виселицей. Ей не хотелось, чтобы он узнал, в каком она отчаянии. Поэтому она заставила себя написать, будто после того, что она сделала, смерть не кажется ей бессмысленной. Это была правда, но не полная правда. Такой же искренней была Анна, уверяя Бодо, что не может бояться смерти, когда бесчисленные поколения уже находятся «по ту сторону»; о том же, что она с содроганием хватается рукой за горло всякий раз, когда подумает о смерти и об анатомичке, Анна умолчала. Наконец она даже нашла известное успокоение в банальной мысли: так много людей сейчас умирает каждый день, и большинство даже не знает, чего ради, — значит, я тоже сумею. Докапываться до смысла она считала дерзостью; теперь она могла думать так: многие уже там, рано или поздно там будут все, и я должна, должна удовольствоваться этой истиной.
Но последнее она пыталась скрыть даже от самой себя. Браденбург стоял и дожидался. Ей хотелось вложить в письмо хоть небольшую поддержку, хоть единственное словечко, которое осталось бы с ним, с Бодо, и, увидав через решетку звезду, которой она не знала, а потом еще одну, она вспомнила то, о чем они условились в последнюю встречу, когда чудесной светлой ночью шли на яхте: всегда думать друг о друге, если по вечерам они увидят Большую Медведицу — Бодо в России, она в Берлине. Письмо заканчивалось так: «Я вижу через решетку наше созвездие, нашу золотую колесницу, и потому знаю, что ты сейчас вспомнишь обо мне. Так будет каждый вечер, и это успокаивает меня. Бодо, милый Бодо, все мои мысли и чувства к тебе я поверяю этому созвездию навеки. Значит, они дойдут до тебя, какие бы расстояния ни легли между нами».
Прямое попадание бомбы в здание трибунала удлинило срок, отпущенный Анне на размышление.
Ее защитник, назначенный судом, лишь беспомощно разводил красными короткопалыми руками; впервые она увидела его за двадцать минут до слушания дела. При своем втором и последнем визите он беспрестанно оглядывался на дверь камеры, словно ждал оттуда выстрела в затылок. Потом, закрыв рот носовым платком, он торопливо прошептал: «Супруга генерального судьи сегодня утром была у меня, она спасет вас, если вы немедленно согласитесь...» Прервав защитника, словно ей не полагалось все это слушать, Анна возбужденно попросила доставить ей наконец какую-нибудь весточку от Бодо.
Посещения пастора были для нее опаснее. Он пытался разъяснить Анне, что, по христианскому учению, погребенный без обряда и в смерти не обретает покоя. Как ни ждала она его посещений, она облегченно вздыхала, когда он уходил. И всякий раз она плакала. Под конец ее охватило такое смятение, что она даже не знала, можно ли доверить ему тайну, предназначенную для Бодо.
Четыре дня и три ночи она делила заключение с девятнадцатилетней полячкой, вывезенной на работу в Германию. Эта полячка из хлебного мякиша вылепила ей четки, но и с ними Анна не могла молиться, так же как без них. Во время воздушной тревоги девушка — она была родом из Лодзи — наелась досыта в одной дрезденской булочной: за это ее обвинили в мародерстве и приговорили к отсечению головы. Не будучи храброй, она обладала стоицизмом, и ее присутствие приносило Анне облегчение, хотя генеральный судья надеялся, что совместное пребывание с обреченной девушкой, которая даже не имеет права оповестить своих родственников, сделает Анну покорной. Может быть, его расчеты и сбылись бы: пробил последний час польской девушки — это было в неверном утреннем свете десятого дня из отпущенных Анне на размышление, — и ее вызвали из камеры без вещей; они обнялись и поцеловались — родные сестры перед палачом. От прикосновения к уже обескровленному лицу подруги Анна внезапно ощутила холодную сталь гильотины, и этот удар топора как бы отсек Анну от ее поступка: она больше не понимала девушку, которая похоронила своего брата, она не желала больше быть этой девушкой, она хотела уничтожить сделанное. И это погубило ее. Оставленная в одиночестве, она чувствовала теперь, как содрогаются ее нервы от каждого шага в коридоре, где даже запрещалось ступать по ослепительной дорожке из линолеума. Ее блуждающий взгляд больно ударялся о стены и застревал в прутьях решетки, через которые врывался дневной свет. «А жизнь идет своим чередом» — эта грубейшая из всех пошлостей обжигала ей сердце. Даже во время прогулки по тюремному двору при виде воробьев, прыгавших на кучках шлака, эта плоская истина казалась ей унизительной. А слова, которые Бодо сказал ей в утешение, когда она узнала, что брата повесят, теперь час за часом пригвождали ее недремлющее воображение к доске под гильотиной, куда ее пристегнут ремнями, и перед глазами ее неотступно стоял облицованный желоб для стока крови позади помоста: голова, отделенная от туловища, продолжает жить еще долго, слепая, но, видимо, в полном сознании — и живет иногда целых полчаса, тогда как смерть на виселице, как правило, наступает скоро. Подобным утверждением генеральный судья пытался однажды оправдаться перед своей семьей в том, что «изменников», которым отказано в расстреле, он приговаривает к петле, и ничем иным Бодо не мог тогда успокоить Анну. Как же теперь придется страдать ему, когда он узнает, что предстояло ей? Ибо женщин — и это он тоже сказал ей тогда — женщин согласно предписанию фюрере приговаривают к гильотине...