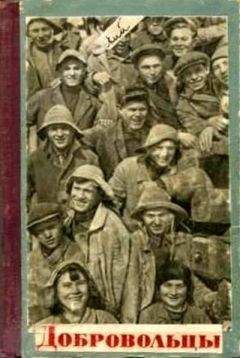Глава восемнадцатая
ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК
И снова Кайтанов на шахте. И снова
Тяжелая глина идет на-гора.
И вот основанье туннелей готово,
И мраморов нежных приходит пора.
Теперь не в девоне шахтерские лица,
А в тонкой, чуть-чуть розоватой пыли.
Все шире подземное царство столицы,
Все ближе подходим мы к сердцу земли.
Слыхали? В начальстве у нас перемены:
Оглотков на днях на учебу ушел.
Вновь станет Кайтанов начальником смены,
А Леля — участка… Держись, комсомол!
Она академию кончила только.
Диплом без отличья, но все же диплом.
Теперь у нее в подчинении Колька,
Как в первые дни, как в далеком былом.
И это ему не но нраву. Несмело
Ворчит он: «Семейственность очень вредна,
Товарищи, я полагаю, не дело,
Чтоб вместе работали муж и жена».
Но это не главные наши волненья,
Другое болит и тревожит сейчас.
Таким уж сложилось мое поколенье,
Что в сердце весь мир уместился у нас.
Испанские сводки все строже и глуше.
Везут пароходы безмолвных детей.
Кольцовские очерки мучают душу.
Пять месяцев нету от Славки вестей.
…И мы не знаем, мы не знаем,
Что он сегодня в сотый бой
Летит над разоренным краем,
Над сьеррой серо-голубой!
То цвет печали, цвет оливы,
Одежда каменных долин.
Вокруг снарядные разрывы.
Пять «мессеров». А он — один.
И завертелась, завертелась
Воздушной схватки кутерьма.
Он позабыл, где страх, где смелость.
Ведь бой с врагом есть жизнь сама,
Жизнь, отданная беззаветно
Сознанью нашей правоты.
А смерть приходит незаметно,
Когда в нее не веришь ты.
В разгаре боя поперхнулся
Последней пулей пулемет.
Бензина нет. Мотор без пульса,
Соленой кровью полон рот.
А стая «мессеров» кружится,
Он видит солнце в облаках
И перекошенные лица
Берлинских демонов в очках.
По крыльям «чайки» хлещет пламя,
А твой аэродром далек.
Как будто ватными руками
Сумел он сдвинуть козырек
И грузно вывалился боком,
Пронизанный воздушным током.
Не дергая скобы, он падал.
А «мессершмитт» кружился рядом
И терпеливо ждал минуты,
Когда, открыт со всех сторон,
Под шелестящим парашютом
Мишенью верной станет он.
И, сдерживаясь через силу.
Он вспомнил: с ним уж это было.
Когда? И с ним ли? Нет, не с ним,
Давно, когда он был любим.
За этот срок предельно малый
Он понял: «Бедный мой дружок,
Ведь ты тогда меня спасала,
Нарочно затянув прыжок,
Как бы предчувствуя, предвидя
Прозреньем сердца своего
Путь добровольцев, бой в Мадриде,
Налет пяти на одного».
В ста метрах от земли пилот наш
Рукой рванул кольцо наотмашь…
Над ним склоняются крестьяне,
Дырявый стелют парашют,
Прикладывают травы к ране,
Виски домашним спиртом трут.
Скорей бы начало смеркаться!
Они тревожатся о том,
Что рядом лагерь марокканцев
И вражеский аэродром.
Противник видел, как он падал
И приземлился на горе.
Республиканца спрятать надо
От вражьих глаз в монастыре.
Его везут на старом муле.
То вверх, то вниз идет тропа.
Он ощущает тяжесть пули —
Боль то остра, то вновь тупа.
Вот и конец дорожки узкой.
И в монастырской тишине,
Бинты срывая, бредит русский
В горячем, зыбком полусне.
Монахиня, в чепце крахмальном,
С лицом, как у святых, овальным,
С распятьем в сухонькой руке,
Безмолвно слушает впервые,
Как он благодарит Марию
На непонятном языке.
И умиляется, не зная,
Что это вовсе не святая,
Вплетенная случайно в бред,
А метростроевская Маша,
Хорошая подружка наша,
Разбившаяся в двадцать лет,
Летевшая быстрее света,
Спасая будущему жизнь,
Метеоритом с той планеты,
Которой имя — коммунизм.
…Испанские сводки все глуше и строже,
И стали для нас апельсины горьки.
Статьи Эренбурга — морозом по коже.
Семь месяцев Славка не шлет ни строки.
От этих волнений, от вечной тревоги
Одно утешенье — в страде трудовой.
И линия новой подземной дороги
На северо-запад прошла под Москвой.
Недельку она принималась за чудо,
Убранством своим вызывала восторг
И стала на службу московскому люду,
Спешащему в Сокол иль к центру, в Мосторг.
И едут теперь как ни в чем не бывало
И смотрят на наши дворцы москвичи.
И только приезжего, провинциала,
Узнаешь здесь сразу: глаза горячи.
Но кто этот парень, пытливый, дотошный,
Спустившийся утром в подземку Москвы
В берете, в ботинках на толстой подошве?
Он трогает пальцем на мраморе швы.
Ну ехал бы смирно от «Аэропорта».
Чего он ворочается, как медведь?
К дверям пробиваясь, какого он черта
На станции каждой выходит глазеть?
И вдруг оглянулся. И вдруг улыбнулся,
Пройдя «Маяковской» широкий перрон.
«Ребята! Товарищи! Славка вернулся!
Узнать нелегко, но, клянусь, это он!»
Глава девятнадцатая
ФРИЦ И ГУГО
В горах закат холодный пламенеет.
Все кончено. Последний сдан редут.
Они отходят через Пиренеи.
Так тяжело, так медленно идут,
Как будто камни родины магнитом
Притягивают гвозди их подошв.
Идут по скалам, наледью покрытым,
И снег над ними переходит в дождь.
Ты мачехой им станешь иль сестрою,
Земля, где воевала Жанна д'Арк?
Они цепочкою идут и строем,
На рубеже встречает их жандарм.
Урок свободы здесь они получат,
Привольно будут жить в своем кругу,
За проволокой ржавою колючей,
На диком и пустынном берегу.
Но кто это среди солдат и женщин
Так скорбно завершает этот марш,
Не по погоде — в выгоревшем френче,
Ступая в грязь лохмотьями гамаш?
Неровно и прерывисто дыханье,
И краснота у выцветших ресниц…
Да это метростроевский механик,
Солдат Испании, товарищ Фриц.
Живых товарищей он вспомнить хочет
И подытожить счет своих потерь…
С ним был Уфимцев — летчик и проходчик,
Родригес Карлос… Где же он теперь?
Или на дне Бискайского залива
Тот пароход, что вез его домой?
А может, он, веселый и счастливый,
Сейчас уже в Москве, в Москве самой?
…Сосною пахнут свежие заборы,
Цементной пылью дышит ветерок,
И метростроевцы полны задора,
Разучивают песню, как урок.
«Но ведь и я учился в этой школе,
Ушел оттуда в европейский мрак.
Хозяйку молодую звали Лелей…
Ну да, Эллен, Еленой, точно так.
А мужа — Колей… Молодые люди,
Они не знают настоящих бед.
В Москве сейчас, наверно, вечер чуден,
Пять красных звезд горят на целый свет…
Таят секрет рубиновые грани:
Под башнею кремлевской, как ни стань,
Заметь — откуда ты на них ни глянешь,
К тебе обращена любая грань».
«Камрад, не спать!» Чудесное виденье
Исчезло. Под ногами скользкий лед.
Ущелье прикрывает смутной тенью
Республиканской армии исход.
И вспомнил Фриц еще страну иную,
Что тоже родиной ему была,
Сегодня превращенную в пивную,
Где он не ищет места у стола.
Берлин — угрюмый, серый… Как там Гуго,
Ужель врагу отдался целиком?
В Москве он был ему пускай не другом,
Но сотоварищем и земляком.
Конечно, после русского простора
Попав в скупой коричневый мирок,
Людского униженья и позора
Он выдержать, он вынести не мог,
И, увлеченный этой общей болью,
Он выбрал трудный и опасный путь
Свободы, пролетарского подполья,
Чтоб немцам честь и родину вернуть;
Изгнанникам он путь откроет к дому,
И вместе мы о Веддинге споем.
Все было, к сожаленью, по-другому,
Ошибся Фриц в товарище своем.
Вернувшись из кайтановской бригады,
Наш скучный Гуго строил автострады.
Став у начальства на счету отличном,
Решил он, что сбылись его мечты:
Пора заняться и устройством личным —
Построить домик, посадить цветы…
Есть под Берлином двухэтажный Цоссен,
Предместье. Там в почете бук и граб,
По гравийным дорожкам ходит осень,
И листья как следы гусиных лап.
Жена, она немножко истеричка.
Нужны ей свежий воздух и покой.
Почти бесшумно ходит электричка,
До центра города подать рукой.
К семи он возвращался из Берлина,
Калитка отворялась перед ним.
Как славно вечерами у камина
Молчать, дыша покоем нажитым!
Не надо радио! Путем воздушным
Оно несет земли тревожный гул.
Стал тихий Гуго жадным, равнодушным,
В нем человек как будто бы уснул.
Газету он смотрел лишь в воскресенье.
И как-то раз, средь сонной тишины,
Прочел заманчивое объявленье:
В Финляндию бетонщики нужны.
Сначала Грета слушать не хотела:
«Ты не поедешь! Там такой мороз!..
Однако это денежное дело!»
И дальше разговор пошел всерьез.
Он тронулся с контрактом на полгода
И вскоре с перешейка написал,
Что тут совсем не страшная погода,
Хотя всегда туманны небеса.
Он строил замечательные доты
Со лбами двухметровой толщины.
Был как гранит бетон его работы,
Стальные прутья насмерть сплетены.
Шли крепости рядами, образуя
Непроходимый каменный порог,
И узкие прямые амбразуры —
Глаза войны — смотрели на восток.
Зачем они? Ему какое дело!
Так нужно финнам. Не его печаль.
Достаточно ли масса затвердела —
За это он как мастер отвечал.
И лишь однажды, в щелку капонира
Увидев смутный северный рассвет,
Он вспомнил молодого бригадира
И всех, с кем подружился он в Москве.
Земля их там, за лесом, недалеко.
А вдруг они увидели его?
Как ученик, не знающий урока,
Не в силах он ответить ничего.
Воспоминанье вспыхнуло и сразу
Погасло, не задев его души.
А перед амбразурой узкоглазой
Сухой, как жесть, чертополох шуршит.