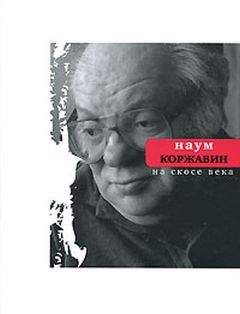* * *
Нелепые ваши затеи
И громкие ваши слова…
Нужны мне такие идеи,
Которыми всходит трава.
Которые воздух колышут,
Которые зелень дают.
Которым всё хочется выше,
Но знают и меру свою.
Они притаились зимою,
Чтоб к ним не добрался мороз.
Чтоб, только запахнет весною,
Их стебель сквозь почву пророс.
Чтоб снова наутро беспечно,
Вступив по наследству в права,
На солнце,
как юная вечность,
Опять зеленела трава.
Так нежно и так настояще,
Что — пусть хоть бушует беда —
Ты б видел, что всё — преходяще,
А зелень и жизнь — никогда.
1950
Небо за плёнкой серой.
В травах воды без меры:
Идёшь травяной дорожкой,
А сапоги мокры…
Всё это значит осень.
Жить бы хотелось очень.
Жить бы, вздохнуть немножко,
Издать петушиный крик.
Дует в лицо мне ветер.
Грудью бы горе встретить
Или его уничтожить.
Или же — под откос.
Ветер остался ветром,
Он затерялся в ветлах,
Он только холод умножил,
Тревогу-тщету принёс.
Но всё проходит на свете,
И я буду вольным, как ветер,
И больше не буду прикован
К скучной точке одной.
Тогда мне, наверно, осень
Опять понравится очень:
«Муза далёких странствий»,
Листьев полёт шальной.
1950
Всё это было, было, было…
А. Блок
Всё это было, было, было:
И этот пар, и эта степь,
И эти взрывы снежной пыли,
И этот иней на кусте.
И эти сани — нет, кибитка, —
И этот волчий след в леске…
И даже… Даже эта пытка:
Гадать, чем встретят вдалеке.
И эта радость молодая,
Что всё растёт… Сама собой…
И лишь фамилия другая
Тогда была. И век другой.
Их было много: всем известных
И не оставивших следа.
И на века безмерно честных,
И честных только лишь тогда.
И вспоминавших время это
Потом, в чинах, на склоне лет:
Снег… кони… юность… море света.
И в сердце угрызений нет.
Отбывших ссылку за пустое
И за серьёзные дела,
Но полных светлой чистотою,
Которую давила мгла.
Кому во мраке преисподней
Свободный ум был светлый дан,
Подчас светлее и свободней,
Чем у людей свободных стран.
Их много мчалось этим следом
На волю… (Где есть воля им?)
И я сегодня тоже еду
Путём знакомым и былым.
Путём знакомым — знаю, знаю —
Всё узнаю, хоть всё не так,
Хоть нынче станция сквозная,
Где раньше выход был на тракт,
Хотя дымят кругом заводы,
Хотя в огнях ночная мгла,
Хоть вихрем света и свободы
Здесь революция прошла.
Но после войн и революций.
Под всё разъевшей темнотой
Мне так же некуда вернуться
С душой открытой и живой.
И мне навек безмерно близки
Равнины, что, как плат, белы, —
Всей мглой истории российской,
Всем блеском искр средь этой мглы.
1950
Сочась сквозь тучи, льётся дождь осенний.
Мне надо встать, чтобы дожить свой век,
И рвать туман тяжёлых настроений,
И прорываться к чистой синеве.
Я жить хочу. Движенья и отваги.
Смой, частый дождь, весь сор с души моей,
Пусть, как дорога, стелется бумага —
Далёкий путь к сердцам моих друзей.
Жить! Слышать рельсов радостные стоны,
Стоять в проходе час, не проходя…
Молчать и думать…
И в окне вагона
Пить привкус гари
в капельках дождя.
1950
Уж заводы ощущаются
В листве.
Электричка приближается
К Москве.
Эх, рязанская дороженька,
Вокзал.
Я бы всё, коль было б можно,
Рассказал.
Эх, Столыпин ты Столыпин, —
Из окон
Ясно виден твой столыпинский
Вагон.
Он стоит спокойно в парке,
Тихо ждёт,
Что людей конвой с овчаркой
Подведёт.
На купе разбит он чётко.
Тешит взор…
И отбит от них решёткой
Коридор.
В коридоре ходит парень
Боевой,
Вологодский, бессеребреный
Конвой.
…Эх, рязанская дороженька,
Легка,
Знать, тебе твоя острожная
Тоска.
1951
Песня дальняя слышна,
Птицы шепчутся в кустах.
Здесь покой и тишина.
Значит, здесь я лишь в гостях.
Зелень, зелень свыше мер,
Мудрость бледного листа…
От неверий и от вер
Я до крайности устал.
Оттого что всё в крови
Сердце жёсткое моё.
От отсутствия любви
И нашествия её.
Оттого что как закон
Жизнь во всём даёт понять,
Что затем я и рождён,
Чтоб насильно смерть принять.
Эта мысль теперь во всём.
Даже в воздухе самом.
Даже в дачной тишине —
Не родной, а чуждой мне.
1952
Что же! Здравствуй, Москва.
Отошли и мечты, и гаданья.
Вот кругом ты шумишь,
вот сверкаешь, светла и нова.
Блеском станций метро,
высотой воздвигаемых зданий
Блеск и высь подменить
ты пытаешься тщетно, Москва.
Ты теперь деловита,
всего ты измерила цену.
Плюнут в душу твою
и прольют безнаказанно кровь,
Сложной вязью теорий
свою прикрывая измену,
Ты продашь всё спокойно:
и совесть, и жизнь, и любовь,
Чтоб никто не тревожил
приятный покой прозябанья —
Прозябанье Москвы,
где снабженье, чины и обман.
Так живёшь ты, Москва!
Лжешь,
клянёшься,
насилуешь память
И, флиртуя с историей,
с будущим крутишь роман.
1952
Ни к чему,
ни к чему,
ни к чему полуночные бденья
И мечты, что проснёшься
в каком-нибудь веке другом.
Время?
Время дано.
Это не подлежит обсужденью.
Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нём.
Ты не верь,
что грядущее вскрикнет,
всплеснувши руками:
«Вон какой тогда жил,
да, бедняга, от века зачах».
Нету лёгких времён.
И в людскую врезается память
Только тот,
кто пронёс эту тяжесть
на смертных плечах.
Мне молчать надоело.
Проходят тяжёлые числа,
Страх тюрьмы и ошибок
и скрытая тайна причин…
Перепутано — всё.
Все слова получили сто смыслов.
Только смысл существа остаётся,
как прежде,
один.
Вот такими словами
начать бы хорошую повесть, —
Из тоски отупенья
в широкую жизнь переход…
Да! Мы в Бога не верим,
но полностью веруем в совесть,
В ту, что раньше Христа родилась
и не с нами умрёт.
Если мелкие люди
ползут на поверхность
и давят,
Если шабаш из мелких страстей
называется страсть,
Лучше встать и сказать,
даже если тебя обезглавят,
Лучше пасть самому,
чем душе твоей в мизерность впасть.
Я не знаю,
что надо творить
для спасения века,
Не хочу оправданий,
снисхожденья к себе —
не прошу…
Чтобы жить и любить,
быть простым,
но простым человеком —
Я иду на тяжёлый,
бессмысленный риск —
и пишу.
1952