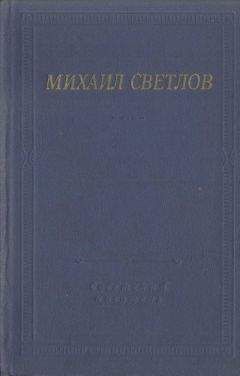32. НА СМЕРТЬ ЛЕНИНА
Сухие улицы заполнены тоской,
И боль домов и боль людей огромна…
У нас на нашей стройке заводской
Упала самая большая домна.
Но красных кирпичей тяжелые куски
Мы унесем с собой, чтобы носить их вечно,
Хоть больше в наших топках не зажечь нам
Ленина потухшие зрачки.
1924
Часы роняют двенадцать,
Стрелки сжав от боли…
Больше к тебе стучаться
Я не буду, Коля.
Ты ушел далече,
Не попрощался даже…
Хмурый, как ты, вечер
Синий язык кажет.
Нам о тебе петь ли?
В этой комнате тише б…
Мертвый удар петли
Слово из глотки вышиб.
Скоро лежать синея,
Может, из нас любому.
Это моя шея
Дико зовет на помощь!
Это мои кости
Жажда жизни сжала…
Может, к тебе в гости
Скоро и я пожалую.
Встречу тебя тем ли,
Чтобы, ветром гонимы,
Увидеть нашу землю
И вместе пройти мимо.
1924
1. «Хриплый, придушенный стон часов…»
Хриплый, придушенный стон часов
Заставил открыть глаза.
Было двенадцать. Улицу сон
Ночным нападеньем взял.
Зорким дозором скрестив пути,
Мгла заняла углы,
Даже фонарь не мог спастись
От черных гусениц мглы.
Оделся. Вышел один в тишине
Послушать башенный бой.
Тотчас же ночь потянулась ко мне
Колькиной мертвой рукой.
А я не знал: протянуть ли свою? —
Я ведь Кольку любил.
Думал недолго, свернул на юг,
И руку в карман вложил.
Так я шел час, два,
Три, четыре, пять,
Пока усталая голова
К руке склонилась опять.
И только хотел я назад свернуть,
Прийти и лечь в постель,
Как вором ночным, прорезав путь,
Ко мне подошла тень.
Я не дрогнул. Я знаю: давно
В Москве привидений нет.
И я сказал, улыбаясь в ночь:
«Милый, денег нет!
Ты знаешь, после дней борьбы
Трудно поэтам жить,
И шелест денег я забыл,
И что на них можно купить.
Смотри: на мне уже нет лица,
Остался один аппетит,
И щеки мои — как два рубца,
И голод в них зашит».
Она мне ответила — эта тень —
Под ровный башенный бой:
«Время не то, и люди не те,
Но ты — остался собой.
Ты всё еще носишь в своих глазах
Вспышки прошлых дней,
Когда в крадущихся степях
Шел под командой моей.
Степь казалась еще темней
От темных конских голов,
И даже десяток гнилушек-пней
Казался сотней врагов.
В такие минуты руки мглы
Воспоминания вяжут в узлы
И бросают их на пути,
Чтоб лошади легче было идти.
А лошади, знаешь ты, всё равно,
Где свет горит и где темно,
В такие минуты лошадь и та —
Словно сгущенная темнота.
Не знаешь: где фронт, где тыл,
Бьется ночи пульс.
Чувствуешь — движешься, чувствуешь — ты
Хозяин своих пуль.
Время не то пошло теперь,
Прямо шагать нельзя.
И для того, чтоб открыть дверь,
Надо пропуск взять.
Нынче не то, что у нас в степи, —
Вольно нельзя жить.
Строится дом, и каждый кирпич
Хочет тебя убить.
И ты с опаской обходишь дом,
И руку вложил в карман,
Где голодающим зверьком
Дремлет твой наган».
Она повторила — эта тень —
Под ровный башенный бой:
«Время не то, и люди не те,
Но ты — остался собой.
Не как пуля, как свеча,
Будешь тихо тлеть…»
И я сказал: «У меня печаль,
У меня — товарищ в петле!
Ты знаешь: к обществу мертвецов
Я давно привык,
Но синим знаменем лицо
Выбросило язык.
И часто я гляжу на себя,
И руки берет дрожь,
Что больше всех из наших ребят
Я на него похож!»
Сумрак не так уже был густ,
Мы повернули назад,
И возле дверей моих на углу
Мне мой взводный сказал:
«В стянутых улицах городов
Нашей большой страны
Рукопожатия мертвецов
Ныне отменены.
Вот ты идешь. У себя впереди
Шариком катишь грусть,
И нервный фонарь за тобой следит,
И я за тебя боюсь.
Видишь вон крышу? Взберись на нее,
На самый конец трубы, —
Увидишь могилы на много верст,
Которые ты забыл.
И над землею высоко,
С вершины, где реже мгла,
Увидишь, как кладбище велико
И как могила мала!»
Он кончил. Выслушав его,
Фонарь огонь гасил.
И я молчал… А ночь у ног
Легла без сил.
Ушел, и сонная земля
Работы ждет опять…
Спасская башня Кремля
Бьет пять.
В небе утреннем облака
Мерзнут в синем огне —
Это Колькина рука
Начинает синеть…
2. «Поздно, почти на самой заре…»
Поздно, почти на самой заре,
Пришел, разделся, лег.
Вдруг у самых моих дверей
Раздался стук ног.
Дверь отворилась под чьим-то ключом,
Мрак и опять тишина…
Я очутился с кем-то вдвоем,
С кем — я не знал.
Кто-то сел на мой стул,
Тихий, как мертвец,
И только слышен был стук
Наших двух сердец.
Потом, чтобы рассеять тишь,
Он зажег свет…
«Миша, — спросил он, — ты не спишь?»
— «Генрих, — сказал я, — нет!»
Старого Гейне добрый взгляд
Уставился на меня…
— Милый Генрих! Как я рад
Тебя наконец обнять!
Я тебя каждый день читал
Вот уже сколько лет…
Откуда ты? Какой вокзал
Тебе продал билет?
«Не надо спрашивать мертвецов,
Откуда они пришли.
Не всё ли равно, в конце концов,
Для жителей земли?
Сейчас к тебе с Тверской иду,
Прошел переулком, как вор.
Там Маяковский, будто в бреду,
С Пушкиным вел разговор.
Я поздоровался. Он теперь —
Самый лучший поэт.
В поэтической толпе
Выше его нет.
Всюду проникли и растут
Корни его дум,
Но поедает его листву
Гусеница Гум-Гум.
Я оставил их. Я искал
Тебя средь фонарей.
Спустился вниз. Москва-река
Тиха, как старый Рейн.
Я испустил тяжелый вздох
И шлялся часа три,
Пока не наткнулся на твой порог,
Здесь, на Покровке, 3.
……………………………
Ах, я знаю: удивлен ты —
Как в разрушенной могиле
На твоем я слышал фронте
Эти скучные фамилии.
Невозможное возможно —
Нынче век у нас хороший.
Ночью мертвых осторожно
Будят ваши книгоноши.
Всем им книжечек примерно
По пяти дают на брата,
Ведь дела идут не скверно
В литотделе Госиздата.
Там по залам скорбным часом
Бродят тощие мужчины
И поют, смотря на кассу,
О заводах, о машинах…
Износившуюся тему
Красно выкрасив опять,
Под написанной поэмой
Ставят круглую печать.
Вы стоите в ожиданье,
Ваш тяжелый путь лишь начат…
Ах, мой друг! От состраданья
Я и сам сейчас заплачу.
Мне не скажут: перестаньте!
Мне ведь можно — для людей
Я лишь умерший романтик,
Не печатаюсь нигде…
Ты лежи в своей кровати
И не слушай вздор мой разный.
Я ведь, в сущности, писатель
Очень мелкобуржуазный.
В разговорах мало толку,
Громче песни, тише ропот.
Я скажу, как комсомолка:
Будь здоров, мне надо топать!»
Гейне поднялся и зевнул,
Устало сомкнув глаза,
Потом нерешительно просьбу одну
На ухо мне сказал…
(Ту просьбу, что Гейне доныне таит,
Я вам передать хотел,
Но здесь мой редактор, собрав аппетит,
Четыре строки съел).
«Ну, а теперь прощай, мой друг,
До гробовой доски!»
Я ощутил на пальцах рук
Холод его руки.
Долго гудел в рассветной мгле
Гул его шагов…
Проснулся. Лежат у меня на столе
Гейне — шесть томов.
1924–1925