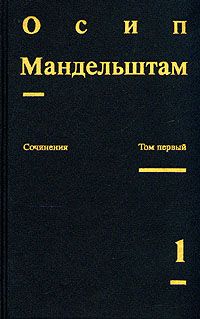Нашедший подкову
Глядим на лес и говорим:
Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны, до самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю, одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе.
Под соленою пятою ветра устоит отвес, пригнанный к пляшущей палубе,
И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.
А вдыхая запах смолистых слез,
Проступивших сквозь обшивку корабля,
Любуясь на доски,
Заклепанные, слаженные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником,
А другим –
отцом путешествий,
другом морехода, –
Говорим:
И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу
Выменять на щепотку соли свой благородный груз.
С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.
Трижды блажен, кто введет в песнь имя, –
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других –
Она отмечена среди подруг
Повязкой на лбу, исцеляющей от беспамятства,
Слишком сильного одуряющего запаха –
Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растертого между ладоней.
Воздух
Бывает темным, как вода, и всё живое в нем плавает как рыба.
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую,
Чуть нагретую, –
Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный заново
Вилами,
трезубцами,
мотыгами,
плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля:
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.
Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой.
Дети играют в бабки позвонками умерших животных.
Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было.
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая,
литая,
никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» или «Я не дам тебе яблока» –
И лицо его точный слепок с голоса,
Который произносит эти слова.
Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами –
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.
Так
Нашедший подкову сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью,
Пока она не заблестит.
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущенье тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался, пока
его несли домой.
То, что я сейчас говорю,
Говорю не я,
А вырыто из земли,
Подобно зернам окаменелой пшеницы.
Одни
на монетах изображают льва,
Другие –
голову.
Разнообразные
Медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле.
Век,
Пробуя их перегрызть,
Оттиснул на них свои зубы.
Время
Срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого…
1923
Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось…
Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок –
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.
Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.
Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье,
И все-таки еще гряда –
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время –
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.
Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором,
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!
Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует:
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот –
Изнанка образов зеленых –
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.
И как паук ползет ко мне –
Где каждый стык луной обрызган.
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твердой записи мгновенной,
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.
Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной!
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве!
И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая встык –
Кремень с водой, с подковой перстень.
1923, 1927
Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни – голуби, дома – как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские – событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки –
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох…
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома – зубов молочных ряд
На деснах старческих – как близнецы стоят.
Здесь клички месяцам давали, как котятам,
А молоко и кровь давали нежным львятам,
А подрастут они – то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые – там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного;
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу,
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой!
1923
«Как тельце маленькое крылышком…»
Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось,
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.
Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:
«Не забывай меня: казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя:
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини!»
1923
Кто время целовал в измученное темя –
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших, –
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.
Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомо́щная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать,
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина…
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.
По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь, –
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Всё силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Всё время валится из рук.
Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей: «Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».
Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.
А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед.
Всё шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?
Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш –
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех…
Но пишущих машин простая сонатина –
Лишь тень сонат могучих тех.
1924, 1937
«Нет, никогда, ничей я не был современник…»