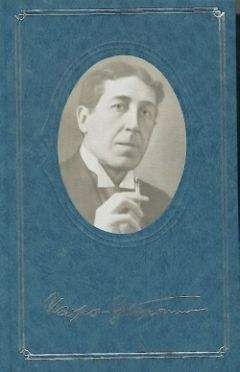Где умерщвленье для плоти
В плоти своей же возьму?
Дух воскрыляю свой в небо…
Слабые тщетны мольбы:
Все, кто вкусили от хлеба,
Плоти навеки рабы.
Эти цветы, эти птицы,
Запахи, неба кайма,
Что теплотой золотится,
Попросту сводят с ума…
Мы и в трудах своих праздны,-
Смилуйся и пожалей!
Сам ты рассыпал соблазны
В дивной природе своей…
Где ж умерщвленье для плоти
В духе несильном найду?
Если закат в позолоте -
Невыносимо в саду…
1927
Белоликие монахини в покрывалах скорбно-черных,
Что в телах таите, девушки, духу сильному покорных?
И когда порханье запахов в разметавшемся жасмине,
Не теряете ли истины в ограждающем Амине?
Девушки богоугодные, да святятся ваши жертвы:
Вы мечтательны воистину, вы воистину усердны!
Но ведь плотью вы оплотены, и накровлены вы
кровью,-
Как же совладать вы можете и со страстью,
и с любовью?
Соловьи поют разливные о земном – не о небесном,
И о чувстве ночи белые шепчут грешном и прелестном…
И холодная черемуха так тепло благоухает,
И луна, луна небесная, по-земному так сияет…
Как же там, где даже женщины, даже женщины -
вновь девы,
Безнаказанно вдыхаете ароматы и напевы?
Не живые ль вы покойницы? Иль воистину святые?-
Черные, благочестивые, белые и молодые!
1927
Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что эта отрада – в любви…
И цветы монастырского луга
С лаской, свойственной только цветам,
Говорят, что одна есть заслуга:
Прикоснуться к любимым устам…
Монастырского леса озера,
Переполненные голубым,
Говорят: нет лазурнее взора,
Как у тех, кто влюблен и любим…
1927
У моря и озер, в лесах моих сосновых,
Мне жить и радостно, и бодро, и легко,
Не знать политики, не видеть танцев новых
И пить, взамен вина, парное молоко.
В особенности люб мне воздух деревенский
Под осень позднюю и длительной зимой,
Когда я становлюсь мечтательным, как Ленский,
Затем, что дачники разъехались домой.
С отъездом горожан из нашей деревеньки
Уходит до весны (как это хорошо!)
Все то ходульное и то “на четвереньках”,
Из-за чего я сам из города ушел…
Единственно, о чем взгрустнется иногда мне:
Ни звука музыки и ни одной души,
Сумевшей бы стиха размер расслышать давний
Иль новый – все равно, кто б о стихе тужил.
Здесь нет таких людей, и вот без них мне пусто:
Тот отрыбачил день, тот в поле отпахал…
Как трудно без души, взыскующей искусства,
Влюбленной в музыку тончайшего стиха!
Доступность с простотой лежат в моих основах,
Но гордость с каждым днем все боле мне сродни:
У моря и озер в лесах моих сосновых
Мы с Музой радостны, но в радости – одни.
1927
Восемь лет я живу в красоте
На величественной высоте.
Из окна виден синий залив.
В нем – луны золотой перелив.
И – цветущей волной деревень -
Заливает нас в мае сирень,
И тогда дачки все и дома -
Сплошь сиреневая кутерьма!
Оттого так душисты мечты -
Не сиреневые ли цветы?
Оттого в упоенье душа,
Постоянно сиренью дыша…
А зимой – на полгода – снега,
Лыжи, валенки, санки, пурга.
Жарко топлена русская печь.
Книг классических четкая речь.
Нет здесь скуки, сводящей с ума:
Ведь со мною природа сама.
А сумевшие сблизиться с ней
Глубже делаются и ясней.
Нет, не тянет меня в города,
Где царит “золотая орда”.
Ум бездушный, безумье души
Мне виднее из Божьей глуши.
Я со всеми в деревне знаком:
И с сапожником, и с рыбаком.
И кого не влекут кабаки,
Те к поэту идут рыбаки.
Скучно жить без газет мужичку…
Покурить мне дадут табачку,
Если нет у меня самого.
Если есть – я даю своего.
Без коня, да и без колеса
Мы идем на озера в леса
Рыболовить, взяв хлеба в суму,
Возвращаясь в глубокую тьму.
И со мной постоянно она,
Кто ко мне, как природа, нежна,
Чей единственный истинный ум
Шуму дрязг предпочел синий шум.
Я природой живу и дышу,
Вдохновенно и просто пишу.
Растворяясь душой в простоте,
Я живу на земле в красоте!
1925
Десять лет – грустных лет! – как заброшен
в приморскую глушь я.
Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп.
Десять лет – страшных лет! – удушающего
равнодушья
Белой, красной – и розовой! – русских общественных
групп.
Десять лет! – тяжких лет! – обескрыливающих
лишений,
Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.
Десять лет – грозных лет! – сатирических строф
по мишени
Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.
Десять лет – странных лет! – отреченья от многих
привычек,
На теперешний взгляд – мудро-трезвый – ненужно-
дурных…
Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков, и птичек,
И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!
Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней
белых
Неземные цветы, вырастающие на земле,
И стихов из души, как природа, свободных и смелых,
И прощенья в глазах, что в слезах, и – любви на челе!
1927
Не устыдись, склонив свои колени,
Благодарить в восторге небеса,
Что зришь еще один расцвет сирени
И слышишь птиц весенних голоса.
Земля цветет, вчера еще нагая,
Цветет душа, ее цветам внемля.
Нисходит в сердце радость всеблагая.
Ценней бессмертья – смертная земля!
Один лишь раз живя на этом свете
И ощущая землю только раз,
Забудь о судьбах будущих столетий:
Вся жизнь твоя – в лучах раскрытых глаз!
1926
В деревушке у моря, где фокстротта не танцуют,
Где политику гонят из домов своих метлой,
Где целуют не часто, но зато, когда целуют,
В поцелуях бывают всей нетронутой душой;
В деревушке у моря, где избушка небольшая
Столько чувства вмещает, где – прекрасному
сродни -
В город с тайной опаской и презреньем наезжая
По делам неотложным, проклинаешь эти дни;
В деревушке у моря, где на выписку журнала
Отдают сбереженья грамотные рыбаки
И которая гневно кабаки свои изгнала,
Потому что с природой не соседят кабаки;
В деревушке у моря, утопающей весною
В незабвенной сирени, аромат чей несравним,-
Вот в такой деревушке, над отвесной крутизною,
Я живу, радый морю, гордый выбором своим!
1927
В однообразии своем разнообразны,
Они разбросаны, как влажные соблазны,
Глазами женскими, и женственны они,
Как дальней юности растраченные дни.
Я часто к ним иду, покорный власти зова.
Один прохладный глаз лучится васильково.
Другой – коричневый – лукавой глубиной
Коварно ворожит, веселый, надо мной.
И серый – третий – глаз, суровый, тайно-нежный,
Напоминает мне о девушке элежной,
Давно утраченной в те щедрые лета,
Когда вот эта жизнь была совсем не та…
И глядя на друзей, взволнованных и влажных,
Я вспомнил девушек в домах многоэтажных
И женщин с этою озерностью в глазах,
Всех женщин, взрощенных и вскормленных в лесах
Отчизны, взвившейся на мир змеей стожалой,
Крылатой родины, божественной, но шалой…
Их было у меня не меньше, чем озер
В лесу, где я иду к обители сестер:
Не меньше ста озер и женских душ не меньше,
Причем три четверти приходится на женщин.
И, углубляясь в приозерные леса,
Я вижу их глаза, я слышу голоса
И слезы вижу я, и смех припоминаю…
Я ими обладал, – я их теперь не знаю.
Я смутно помню их, когда-то близких мне,
Мне отдававших все со мной наедине -
И души, и тела… И что боготворимо
Когда-то было мной, теперь не больше дыма…
В разнообразии своем однообразны
Вдруг стали все они, и влажные соблазны
Их некогда живых и мертвых ныне глаз
Не будят нежности, не вовлекут в экстаз.
Настолько радостны нагаданные встречи,
Настолько тягостны разлуки. Вы – далече,
Непредназначенные женщины мои!..
И видя хлесткие движения змеи,
Ползущей к озеру, и вспомнив о России,
Глаза усталые, глаза немолодые
Закрыв в отчаяньи, я знаю, что слеза
Мне зацелованные женщиной глаза
Кольнет нещедрая – последняя, быть может:
Утеря каждая до сей поры тревожит…
О, эти призраки! Мучительны они…
Я силюсь позабыть растерзанные дни,
Смотрюсь в озера я, но – влажные соблазны
В однообразии уже однообразны…
14-го окт. 1928
Иду, и с каждым шагом рьяней
Верста к версте – к звену звено.
Кто я? Я – Игорь Северянин,
Чье имя смело, как вино!
И в горле спазмы упоенья.
И волоса на голове