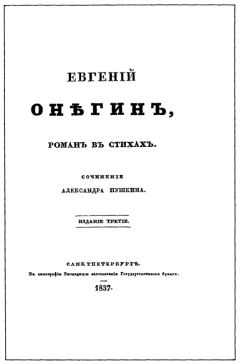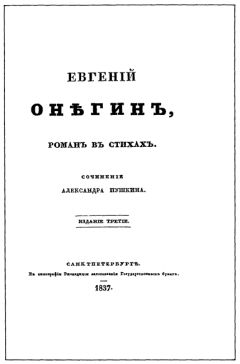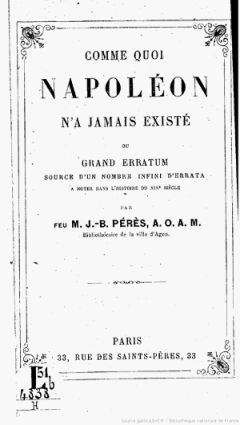XXXV.
Гремятъ отдвинутые стулья;
Толпа въ гостиную валитъ:
Такъ пчелъ изъ лакомаго улья
На ниву шумный рой летитъ.
Довольный праздничнымъ обѣдомъ,
Сосѣдъ сопитъ передъ сосѣдомъ;
Подсѣли дамы къ комельку:
Дѣвицы шепчутъ въ уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовутъ задорныхъ игроковъ
Бостонъ и ломберъ стариковъ,
И вистъ, донынѣ знаменитый,
Однообразная семья,
Всѣ жадной скуки сыновья.
Ужъ восемь робертовъ сыграли
Герои виста; восемь разъ
Они мѣста перемѣняли;
И чай несутъ. Люблю я часъ
Опредѣлять обѣдомъ, чаемъ
И ужиномъ. Мы время знаемъ
Въ деревнѣ безъ большихъ суетъ:
Желудокъ — вѣрный нашъ Брегетъ;
И, кстати, я замѣчу въ скобкахъ,
Что рѣчь веду въ моихъ строфахъ
Я столь же часто о пирахъ,
О разныхъ кушаньяхъ и пробкахъ,
Какъ ты, божественный Омиръ,
Ты, тридцати вѣковъ кумиръ!
Но чай несутъ: дѣвицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдругъ изъ-за двери въ залѣ длинной
Фаготъ и флейта раздались.
Обрадованъ музыки громомъ,
Оставя чашку чаю съ ромомъ,
Парисъ окружныхъ городковъ,
Подходитъ къ Ольгѣ Пѣтушковъ,
Къ Татьянѣ Ленскій, Харликову,
Невѣсту переспѣлыхъ лѣтъ,
Беретъ Тамбовскій мой поэтъ,
Умчалъ Буяновъ Пустякову,
И въ залу высыпали всѣ,
И балъ блеститъ во всей красѣ.
Въ началѣ моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотѣлось въ родѣ мнѣ Альбана
Балъ Петербургскій описать;
Но, развлеченъ пустымъ мечтаньемъ,
Я занялся воспоминаньемъ
О ножкахъ мнѣ знакомыхъ дамъ.
По вашимъ узенькимъ слѣдамъ,
О ножки, полно заблуждаться!
Съ измѣной юности моей
Пора мнѣ сдѣлаться умнѣй,
Въ дѣлахъ и въ слогѣ поправляться,
И эту пятую тетрадь
Отъ отступленій очищать.
Однообразный и безумный,
Какъ вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькаетъ за четой.
Къ минутѣ мщенья приближаясь,
Онѣгинъ, втайнѣ усмѣхаясь,
Подходитъ къ Ольгѣ. Быстро съ ней
Вертится около гостей,
Потомъ на стулъ ее сажаетъ,
Заводитъ рѣчь о томъ, о семъ:
Спустя минуты двѣ, потомъ
Вновь съ нею вальсъ онъ продолжаетъ;
Всѣ въ изумленьи. Ленскій самъ
Не вѣритъ собственнымъ глазамъ.
Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремѣлъ мазурки громъ,
Въ огромномъ залѣ все дрожало,
Паркетъ трещалъ подъ каблукомъ,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, какъ дамы,
Скользимъ по лаковымъ доскамъ.
Но въ городахъ, по деревнямъ,
Еще мазурка сохранила
Первоначальныя красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Все тѣ же; ихъ не измѣнила
Лихая мода, нашъ тиранъ,
Недугъ новѣйшихъ Россіянъ.
Буяновъ, братецъ мой задорный,
Къ герою нашему подвелъ
Татьяну съ Ольгою: проворный
Онѣгинъ съ Ольгою пошелъ;
Ведетъ ее, скользя небрежно,
И, наклонясь, ей шепчетъ нѣжно
Какой-то пошлый мадригалъ,
И руку жметъ — и запылалъ
Въ ея лицѣ самолюбивомъ
Румянецъ ярче. Ленскій мой
Все видѣлъ: вспыхнулъ, самъ не свой;
Въ негодованіи ревнивомъ
Поэтъ конца мазурки ждетъ
И въ котильонъ ее зоветъ.
Но ей не льзя. Не льзя? Но что же?
Да Ольга слово ужъ дала
Онѣгину. О, Боже, Боже!
Что слышитъ онъ? Она могла...
Возможно ль? Чуть лишь изъ пеленокъ,
Кокетка, вѣтренный ребенокъ!
Ужъ хитрость вѣдаетъ она,
Ужъ измѣнять научена!
Не въ силахъ Ленскій снесть удара;
Проказы женскія кляня,
Выходитъ, требуетъ коня
И скачетъ. Пистолетовъ пара,
Двѣ пули — больше ничего —
Вдругъ разрѣшатъ судьбу его.
La sotto giorni nubilosi e brevi
Nasce una gente a cui l'morir non dole.
Petr.
Замѣтивъ, что Владиміръ скрылся,
Онѣгинъ, скукой вновь гонимъ,
Близъ Ольги въ думу погрузился,
Довольный мщеніемъ своимъ.
За нимъ и Олинька зѣвала,
Глазами Ленскаго искала,
И безконечный котильонъ
Ее томилъ, какъ тяжкій сонъ.
Но конченъ онъ. Идутъ за ужинъ.
Постели стелютъ; для гостей
Ночлегъ отводятъ отъ сѣней
До самой дѣвичьи. Всѣмъ нуженъ
Покойный сонъ. Онѣгинъ мой
Одинъ уѣхалъ спать домой.
Все успокоилось: въ гостиной
Храпитъ тяжелый Пустяковъ
Съ своей тажелой половиной.
Гвоздинъ, Буяновъ, Пѣтушковъ
И Фляновъ, не совсѣмъ здоровой,
На стульяхъ улеглись въ столовой,
А на полу мосье Трике,
Въ фуфайкѣ, въ старомъ колпакѣ.
Дѣвицы въ комнатахъ Татьяны
И Ольги всѣ объяты сномъ.
Одна, печально подъ окномъ
Озарена лучемъ Діаны,
Татьяна бѣдная не спитъ
И въ поле темное глядитъ.
Его нежданнымъ появленьемъ,
Мгновенной нѣжностью очей
И страннымъ съ Ольгой поведеньемъ
До глубины души своей
Она проникнута; не можетъ
Никакъ понять его; тревожитъ
Ее ревнивая тоска,
Какъ будто хладная рука
Ей сердце жметъ, какъ будто бездна
Подъ ней чернѣетъ и шумитъ...
«Погибну,» Таня говоритъ:
«Но гибель отъ него любезна.
«Я не ропщу: зачѣмъ роптать?
«Не можетъ онъ мнѣ счастья дать.» —
Впередъ, впередъ, моя исторья!
Лице насъ новое зоветъ.
Въ пяти верстахъ отъ Красногорья,
Деревни Ленскаго, живетъ
И здравствуетъ еще донынѣ
Въ философической пустынѣ
Зарѣцкій, нѣкогда буянъ,
Картежной шайки атаманъ,
Глава повѣсъ, трибунъ трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отецъ семейства холостой,
Надежный другъ, помѣщикъ мирный
И даже честный человѣкъ:
Такъ исправляется нашъ вѣкъ!
Бывало, льстивый голосъ свѣта
Въ немъ злую храбрость выхвалялъ:
Онъ, правда, въ тузъ изъ пистолета
Въ пяти саженяхъ попадалъ,
И то сказать, что и въ сраженьи
Разъ въ настоящемъ упоеньи
Онъ отличился, смѣло въ грязь
Съ коня Калмыцаго свалясь,
Какъ зюзя пьяный, и Французамъ
Достался въ плѣнъ: драгой залогъ!
Новѣйшій Регулъ, чести богъ,
Готовый вновь предаться узамъ,
Чтобъ каждымъ утромъ у Вери37
Въ долгъ осушать бутылки три.
Бывало, онъ трунилъ забавно,
Умѣлъ морочить дурака
И умнаго дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иныя штуки
Не проходили безъ науки,
Хоть иногда и самъ въ просакъ
Онъ попадался, какъ простакъ.
Умѣлъ онъ весело поспорить,
Остро и тупо отвѣчать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодыхъ
И на барьеръ поставить ихъ,
Иль помириться ихъ заставить,
Дабы позавтракать втроемъ,
И послѣ тайно обезславить
Веселой шуткою, враньемъ,
Sed alia tempora! Удалость
(Какъ сонъ любви, другая шалость)
Проходитъ съ юностью живой.
Какъ я сказалъ, Зарѣцкій мой,
Подъ сѣнь черемухъ и акацій
Отъ бурь укрывшись наконецъ,
Живетъ, какъ истинный мудрецъ,
Капусту садитъ, какъ Горацій,
Разводитъ утокъ и гусей
И учитъ азбукѣ дѣтей.
Онъ былъ не глупъ; и мой Евгеній,
Не уважая сердца въ немъ,
Любилъ и духъ его сужденій,
И здравый толкъ о томъ, о семъ.
Онъ съ удовольствіемъ, бывало,
Видался съ нимъ, и такъ нимало
Поутру не былъ удивленъ,
Когда его увидѣлъ онъ.
Тотъ послѣ перваго привѣта,
Прервавъ начатый разговоръ,
Онѣгину, осклабя взоръ,
Вручилъ записку отъ поэта.
Къ окну Онѣгинъ подошелъ
И про себя ее прочелъ.