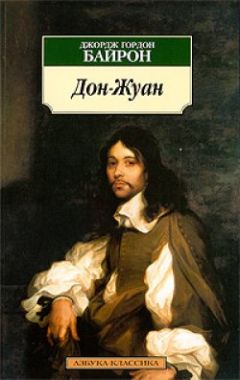[96]
Чти Мильтона и Попа[97]: никогда
Не подражай мужам Озерной школы:
Их Вордсворт — безнадежная балда,
Пьян Колридж, а у Саути слог тяжелый;
У Кэмбела стихи — одна вода,
А трудный Крабб — соперник невеселый;
От Роджерса ни строчки не бери
И с музой Мура флирта не твори.
206
Не пожелай от Созби[98] ни Пегаса,
Ни музы, ни всего его добра,
Не клевещи на ближних для прикрасы
И сплетнями не оскверняй пера,
Пиши без принуждения, без гримасы,
Пиши, как я (давно уже пора!),
Целуй мою лозу, а не желаешь —
Ты на своей спине ее узнаешь!
207
Уж если вы хотите утверждать,
Что этот мой рассказ лишен морали,
То мне придется искренне сказать,
Что вы его ни разу не читали!
Рассказ мой весел, не хочу скрывать.
(Я враг нравоучительной печали!)
В двенадцатой же песне я хотел
Изобразить всех грешников удел.
208
Но тем из вас, чей извращенный разум,
Улик и сплетен разбирая хлам,
Все доводы опровергая разом,
Не веря мне и собственным глазам,
Твердит про «аморальную заразу», —
Я вам скажу — пиитам и попам:
«Вы просто лжете, дорогие сэры!
Точнее — заблуждаетесь без меры!»
209
[99]
Я рад во вкусе бабушек писать?
Я ссориться с читателем не смею,
Мне все же лавры хочется стяжать
Эпической поэмою моею.
(Ребенку надо что-нибудь сосать,
Чтоб зубки прорезались поскорее!)
Я, чтоб читатель-скромник не бранил,
«Британский вестник» бабушкин купил.
210
Я взятку положил в письмо к издателю
И даже получил его ответ:
Он мило обещал (хвала создателю!)
Статью — хвалебных отзывов букет!
Но если он (что свойственно приятелю)
Обманет и меня, и целый свет
И желчью обольет меня язвительно, —
Он деньги взял с меня, ему простительно.
211
Но верю я: священный сей союз
Меня вполне спасет от нападенья,
И ублажать журналов прочих вкус
Не стану в ожиданье одобренья!
Они не любят наших юных муз,
И даже в «Эдинбургском обозренье»
Писатель, нарушающий закон,
Весьма жестокой каре обречен.
212
«Non ego hoc ferrem calida juventa»[100], —
Гораций говорил, скажу и я:
Лет семь тому назад — еще до Бренты —
Была живее вспыльчивость моя:
Тогда под впечатлением момента
Удары все я возвращал, друзья.
Я б это дело втуне не оставил,
Когда Георг, по счету третий, правил.
213
Но в тридцать лет седы мои виски,
Что будет в сорок — даже и не знаю:
Поглядывать я стал на парики.
Я сердцем сед! Еще в начале мая
Растратил я хорошие деньки,
Уж я себя отважным не считаю:
Я как-то незаметно промотал
И смелости и жизни капитал.
214
О, больше никогда на сердце это
Не упадет живительной росой
Заветный луч магического света,
Рождаемый восторгом и красой!
Подобно улью пчел, душа поэта
Богата медом — творческой весной;
Но это все — пока мы сами в силах
Удваивать красу предметов милых!
215
О, никогда не испытаю я,
Как это сердце ширится и тает,
Вмещая все богатства бытия,
И гневом и восторгом замирает.
Прошла навек восторженность моя.
Бесчувственность меня обуревает,
И вместо сердца слышу все ясней
Рассудка мерный пульс в груди моей.
216
Минули дни любви. Уж никогда
Ни девушки, ни женщины, ни вдовы
Меня не одурачат, господа!
Я образ жизни избираю новый:
Все вина заменяет мне вода,
И всех страстей отбросил я оковы,
Лишь скупости предаться я бы мог,
Поскольку это — старческий порок.
[101]
217
Тщеславию я долго поклонялся,
Но божествам Блаженства и Печали
Его я предал. Долго я скитался,
И многие мечты меня прельщали;
Но годы проходили, я менялся.
О, солнечная молодость! Не я ли
Растрачивал в горячке чувств и дум
На страсти — сердце и на рифмы — ум…
218
В чем слава? В том, чтоб именем своим
Столбцы газет заполнить поплотнее.
Что слава? Просто холм, а мы спешим
Добраться до вершины поскорее.
Мы пишем, поучаем, говорим,
Ломаем копья и ломаем шеи,
Чтоб после нашей смерти помнил свет
Фамилию и плохонький портрет!
219
Египта царь Хеопс[102], мы знаем с вами,
Для памяти и мумии своей
Себе воздвиг над многими веками
Гигантский небывалый мавзолей.
Он был разграблен жадными руками,
И не осталось от царя царей,
Увы, ни горсти праха. Так на что же
Мы, грешные, надеяться-то можем?
220
Но все же, философию ценя,
Я часто говорю себе: увы,
Мы — существа единственного дня,
И наш удел — удел любой травы!
Но юность и у вас и у меня
Была приятна, согласитесь вы!
Живите же, судьбу не упрекая,
Копите деньги, Библию читая!..
221
Любезный мой читатель (а верней —
Любезный покупатель), до свиданья!
Я жму вам руку и на много дней
Вам искренне желаю процветанья.
Мы встретимся, пожалуй, попоздней,
Коль явится на то у вас желанье.
(Я от собратьев отличаюсь тем,
Что докучать я не люблю совсем!)
222
[103]
«Иди же, тихий плод уединенья!
Пускай тебя по прихоти несет
Веселых вод спокойное теченье,
И мир тебя когда-нибудь найдет!»
Уж если Боб[104] находит одобренье
И Вордсворт понят — мой теперь черед!
Четыре первых строчки не считайте
Моими: это Саути, так и знайте!
[105]
1
О вы, друзья, кому на обученье
Цвет молодежи всех народов дан, —
Секите всех юнцов без сожаленья
Во исправленье нравов разных стран!
Напрасны оказались наставленья
Мамаши образцовой, и Жуан,
Чуть только на свободе очутился,
Невинности и скромности лишился.
2
Начни он просто школу посещать,
Учись он ежедневно и помногу,
Он не успел бы даже испытать
Воображенья раннюю тревогу.
О, пламенного климата печать!
О, ужас и смятенье педагога!
Как был он тих, как набожен! И вот
В шестнадцать лет уж вызвал он развод.
3
По правде, я не слишком удивлен,
Все к этому вело, судите сами:
Осел-наставник, величавый тон
Мамаши с философскими мозгами,
Хорошенькая женщина и дон
Супруг, слегка потрепанный годами, —
Стеченье обстоятельств, как назло,
Неотвратимо к этому вело.
4
Вокруг своей оси весь мир кружится:
Мы можем, восхваляя небеса,
Платить налоги, жить и веселиться,
Приспособляя к ветру паруса,
Чтить короля, у доктора лечиться,
С попами говорить про чудеса, —
И мы за это получаем право
На жизнь, любовь и, может быть, на славу.
5
Итак, поехал в Кадис мой Жуан.
Прелестный город; я им долго бредил.
Какие там товары южных стран!
А девочки! (Я разумею — леди!)
Походкою и то бываешь пьян,
Не говоря о пенье и беседе, —
Чему же уподобит их поэт,
Когда подобных им на свете нет!
6
Арабский конь, прекрасная пантера,
Газель или стремительный олень —
Нет, это все не то! А их манеры!
Их шали, юбки, их движений лень!
А ножек их изящные размеры!
Да я готов потратить целый день,
Подыскивая лучшие сравненья,
Но муза, вижу я, иного мненья.
7
Она молчит и хмурится. Постой!
Дай вспомнить нежной ручки мановенье,
Горячий взор и локон золотой!
Пленительно-прекрасное виденье
В душе, сияньем страсти залитой!
Я забывал и слезы и моленья,
Когда они весною при луне
Под «фаццоли»[106] порой являлись мне.
8
Но ближе к делу. Маменька послала
Жуана в Кадис, чтобы блудный сын
Пустился года на три — срок немалый —
В чужие страны странствовать один.
Таким путем Инеса отрывала
Его от всех, казалось ей, причин
Грехопадений всяческих: не скрою,
Был для нее корабль — ковчегом Ноя[107].
9
Жуан велел лакею своему
Упаковать баулы кочевые.
Инесе стало грустно — потому,
Что уезжал он все-таки впервые
На долгий срок. Потом она ему
Вручила на дорогу золотые
Советы и монеты; наш герой
Из этих двух даров ценил второй.
10
Инеса между тем открыла школу
Воскресную для озорных детей,
Чей нрав неукротимый и тяжелый
Сулил улов для дьявольских сетей.
С трех лет младенцев мужеского пола
Здесь розгами стегали без затей.
Успех Жуана в ней родил решенье
Воспитывать второе поколенье.
11
И вот готов к отплытью Дон-Жуан;
Попутный ветер свеж, и качка злая;
Всегда в заливе этом океан,
Соленой пеной в путников швыряя,
Бурлит, чертовской злобой обуян.
Уж я-то нрав его отлично знаю!
И наш герой на много-много дней
Прощается с Испанией своей.
12
Когда знакомый берег отступает
В туманы моря, смутная тоска
Неотвратимо нас обуревает —
Особенно, конечно, новичка.
Все берега, синея, исчезают,
Но помню я — как снег и облака,
Белея, тают берега Британии[108],
Нас провожая в дальние скитания.
13
Итак, Жуан на палубе стоял.
Ругались моряки, скрипели реи,
Выл ветер, постепенно исчезал
Далекий город, пятнышком чернея.
Мне от морской болезни помогал
Всегда бифштекс. Настаивать не смею,
Но все же, сэр, примите мой совет;
Попробуйте, худого в этом нет.
14
Печально он на палубе стоял,
Взирая на Испанию родную.
Любой солдат, который покидал
Свою отчизну, знает боль такую;
Любой душой и сердцем трепетал,
Любой в минуту эту роковую,
Забыв десятки гнусных лиц и дел,
На шпиль церковный горестно глядел.
15
Он оставлял любовницу, мамашу
И, что важней, не оставлял жены.
Он сильно горевал, и — воля ваша —
Вы все ему сочувствовать должны:
И нам, испившим опытности чашу,
Часы прощанья все-таки грустны,
Хоть чувства в нас давно оледенели, —
А наш красавец плакал в самом деле.
16
Так плакали Израиля сыны[109]
У Вавилонских рек о днях счастливых, —
И я б заплакал в память старины,
Да муза у меня не из плаксивых.
Я знаю, путешествия нужны
Для юношей богатых и пытливых:
Для упаковки им всего нужней
Листки поэмы ветреной моей.
17
Жуан рыдал, и слез текли ручьи
Соленые — в соленое же море.
«Прекрасные — прекрасной»[110], — ведь сии
Слова произносила в Эльсиноре
Мать принца датского, цветы свои
На гроб Офелии бросая. В горе,
Раскаяньем томимый и тоской,
Исправиться поклялся наш герой.
18
«Прощай, моя Испания, — вскричал он. —
Придется ль мне опять тебя узреть?
Быть может, мне судьба предназначала
В изгнанье сиротливо умереть!
Прощай, Гвадалкивир! Прощайте, скалы,
И мать моя, и та, о ком скорбеть
Я обречен!» Тут вынул он посланье
И перечел, чтоб обострить страданье.
19
«Я не могу, — воскликнул Дон-Жуан, —
Тебя забыть и с горем примириться!
Скорей туманом станет океан
И в океане суша растворится,
Чем образ твой — прекрасный талисман —
В моей душе исчезнет; излечиться
Не может ум от страсти и мечты!»
(Тут ощутил он приступ тошноты.)
20
«О Юлия! (А тошнота сильнее.)
Предмет моей любви, моей тоски!..
Эй, дайте мне напиться поскорее!
Баттиста! Педро! Где вы, дураки?..
Прекрасная! О боже! Я слабею!
О Юлия!.. Проклятые толчки!..
К тебе взываю именем Эрота!»
Но тут его слова прервала… рвота.
21
Он спазмы ощутил в душе (точней —
В желудке), что, как правило, бывает,
Когда тебя предательство друзей,
Или разлука с милой угнетает,
Иль смерть любимых — и в душе твоей
Святое пламя жизни замирает.
Еще вздыхал бы долго Дон-Жуан,
Но лучше всяких рвотных океан.
22
Любовную горячку всякий знает:
Довольно сильный жар она дает,
Но насморка и кашля избегает,
Да и с ангиной дружбы не ведет.
Недугам благородным помогает,
А низменных — и в слуги не берет!
Чиханье прерывает вздох любовный,
А флюс для страсти вреден безусловно.
23
Но хуже всех, конечно, тошнота.
Как быть любви прекрасному пыланью
При болях в нижней части живота?
Слабительные, клизмы, растиранья
Опасны слову нежному «мечта»,
А рвота для любви страшней изгнанья!
Но мой герой, как ни был он влюблен,
Был качкою на рвоту осужден.
24
Корабль, носивший имя «Тринидада»,
В Ливорно шел; обосновалось там
Семейство по фамилии Монкада —
Родня Инесе, как известно нам.
Друзья снабдить Жуана были рады
Письмом, которое повез он сам,
О том, чтобы за ним понаблюдали и
С кем нужно познакомили в Италии.
25
Его сопровождали двое слуг
И полиглот-наставник, дон Педрилло, —
Веселый малый, но морской недуг
Его сломил: всю ночь его мутило!
В каюте, подавляя свой испуг,
Он помышлял о береге уныло,
А качка, все сдвигая набекрень,
Усиливала страшную мигрень.
26
Да, ветер положительно крепчал,
И к ночи просто буря разыгралась.
Хоть экипаж ее не замечал,
Но пассажирам все-таки не спалось.
Матросов ветер вовсе не смущал,
Но небо испугало. Оказалось,
Что паруса приходится убрать,
Из опасенья мачты потерять.
27
[111]