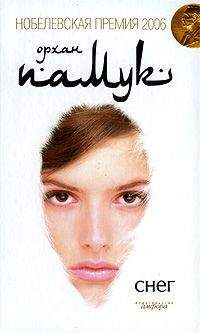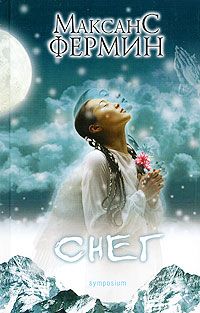Добавить хочется лишь строчку из стихотворения 1982 года: "И нет пока истории другой…"
"Пока"…
На герценовский вопрос: кто виноват? — имеется, как видим, почти рефлекторный ответ: "кровавые цари". Самого грозного из них, неосторожно показавшегося на современном шоссе (или это показалось поэту), он мысленно давит, размазывает под колесами.
Можно взглянуть на это дело и пошире: "Начальнички! Начальнички! Районные кусты! Да тропочки конторские. Да с нумером листы". Может, дело и не в том, сколько крови пролил тот или иной начальничек, а в самом факте, что — начальник? Самый последний генсек крови не пролил, а его Тряпкин награждает такими гадливыми эпитетами, что я их не повторяю из элементарной корректности. Выходит, так: одного в расход за то, что был слишком крут да прям, другого — за то, что был слишком мягок да увертлив? А посредине что? Истина?
Посредине, как мы уже убедились, не истина, а проблема. И имя ей — товарищ Сталин.
Так что же нам делать с собой и страной? Как превратить "великую заплачку в золотой и гордый Песнеслов"? Как вернуть к жизни "край запустыренный мой"? "Кто ж мы такие? Заблудшие ль грешники? Или безродные псы?"
От таких вопросов можно и жизни не взвидеть.
Проклинаю себя, что не смог умереть,
Что не смог умереть за Отчизну свою.
Был я молод, здоров, а решил постареть
За игрой этих струн — и не сгинул в бою…
Сверстникам-смертникам впору позавидовать?
Внуку — не позавидуешь:
Что же делать мне, внук, если ты не живешь,
Если ты не живешь, а смердишь на корню?
За постыдную жвачку ты честь отдаешь,
А страну отдаешь на раздел воронью.
Что же делать мне внук?
На этот чернышевски-ленинский вопрос — два ответа.
Первый — государственный. Восстанавливать Державу! В какой форме — в советской? Да! — отвечает сын столяра, бежавший когда-то от злой раскулачки. Русь казалась красной, а на самом деле она голубая. "Голубая Советская Русь".
Этот мотив становится чуть ли не сквозным в стихах 90-х годов, то есть после развала СССР. (В ту пору, когда СССР существовал, Тряпкину и в голову не приходило выдавать ему славословия. И это к его чести).
Ответ второй — православный. Покаяться.
Но как каяться, если сызмала не верил, если "безбожник… да с таким еще стажем и опытом"? Кому каяться, если нынешнее командное шествие под сень храмов со свечками в руках вместо партбилетов — он воспринимает как "взятку Богу"…
Да когда ж покаяние было логичным?
Не держи Ты всевышнего зла
За срамные мои вавилоны, —
Что срывал я Твои купола,
Что кромсал я святые иконы!
Это он-то кромсал? Это он срывал? Да он глаза прятал, не знал, куда от ужаса деться, когда отец топором орудовал!
Но разве это о себе?
О Господь! Всеблагой И
исус!
Воскреси мое счастье земное.
Подними мой Советский Союз
До креста Своего аналоя…
Это сильный поворот — вот так соединить черное с белым, красное с голубым. Воззвать ко Господу, не стирая "огневой слезы", во сраме гноя и сивухи. Увидеть новую Русь "под созвездием Третьего Рима". Это ли не ответ на вопрос: что делать?
Это ответ. Причем, ожидаемый. Ответ, претендующий на закрытие вопроса. Ответ железный.
Но когда душа пытается соединить режущие края, она должна истечь слезами и кровью. Тут нужна великая поэзия. Великая поэзия должна мучиться над вопросами, на которые нет ответов.
Поэт Николай Тряпкин не дожил сорока пяти недель до Третьего тысячелетия христианской эры. Он успел выкрикнуть во тьму:
Гляжу на крест… Да сгинь ты, тьма проклятая!
Умри, змея!..
О Русь моя! Не ты ли там — распятая?
О Русь моя!..
Она молчит, воззревши к небу звездному
В страде своей.
И только сын глотает кровь железную
С ее гвоздей.
ПОСТСКРИПТУМ.
"Дикий" еврей нашелся. В Америке. Русский поэт Александр Межиров, один из ярчайших лириков военного поколения, укрывшийся на старости лет за океаном, — ответил от имени евреев:
"Вот и вышло, что некстати мне попался тот журнал, исторгающий проклятье: кто-то что-то проклинал, — и какая-то обида. Застарелая. Твоя. И взамен псалма Давида — бормотуха бытия".
За что обида? — Тоже объяснил:
"И в подвале на Урале государь со всей семьей, получилось, мной расстрелян, получилось — только мной".
Поэма "Поземка" была адресована "Коле Тряпкину, истинному поэту".
"Коля" ответил:
"Грохочут литавры, гремит барабан. У Троицкой Лавры — жидовский шалман…"
Так распалось поколение Мальчиков Державы.
Интересно, что ни в итоговый посмертный однотомник Тряпкина "Горящий водолей", ни в прощальную книгу Межирова "Поземка" эти залпы 90-х годов не вошли: стыда ради составители их убрали. А опубликовал — в книге "Последние поэты Империи" — критик Владимир Бондаренко.
Куняев С
Тряпкин Николай Иванович
Тряпкин Николай Иванович (19.12.1918—20.02.1999), поэт. Родился в д. Саблино Тверской губ. в семье крестьянина-столяра. В 1930 под угрозой раскулачивания семья перебралась в с. Лотошино, где Тряпкин окончил школу. В 1939 поступил в Московский историко-архивный институт. С началом войны Тряпкин, не попавший на фронт по состоянию здоровья, в числе эвакуированных оказывается под Сольвычегодском, где работает в должности счетовода.
Первые стихотворения Тряпкин написал еще во время учебы в институте. Но подлинную силу его поэтический голос обрел именно на Русском Севере. «Коренной русский быт, коренное русское слово, коренные русские люди… — писал он в автобиографии. — У меня впервые открылись глаза на Россию и на русскую поэзию, ибо увидел я все это каким-то особым, “нутряным” зрением. А где-то там, совсем рядом, прекрасная Вычегда сливается с прекрасной Двиной. Деревянный Котлас и его голубая пристань — такая величавая и так издалека видная! И повсюду — великие леса, осененные великими легендами. Все это очень хорошо для начинающих поэтов. Ибо сам воздух такой, что сердце очищается и становится певучим. И я впервые начал писать стихи, которые самого меня завораживали. Ничего подобного со мною никогда не случалось. Я как бы заново родился, или кто-то окатил меня волшебной влагой». Критика отмечала сходство ранних стихов Тряпкина со стихами Н. Клюева, а сам поэт по этому поводу впоследствии писал:
Не горлань ты узорно, гармошка!
Ты, колхозная тройка, стоп!
Нам припишут клычковскую кошку,
Что мурлычет про Ноев потоп.
Поэт развивался и рос в течение десятилетий, медленно, неуклонно совершенствуя свой талант. Со временем то, что лишь отдельными штрихами проявляло себя и давало возможность говорить о Тряпкине, как о наследнике Н. Клюева (не издававшегося в России с 1928 по 1977), обрело полновесное звучание уже в тот период, когда стало ясно, что Тряпкин не ограничился бережно сохраненным наследием. В его поэзии обрела свое второе дыхание оборванная в период «канунов» вольная песня крестьянской лиры, обрела свое новое звучание в голосе человека, сохранившего в памяти и трагические 30-е, и трагические 40-е — всю страшную эпоху «великого перелома»:
Проснись, мое сердце, и слушай великий хорал.
Пусть вечное Время гудит у безвестных начал.
Пускай пролетает другое вослед за Другим,
А Мы с тобой — только тростинки под ветром таким.
С годами выявлялся определяющий мотив творчества Тряпкина — мотив Памяти. Памяти, несущей в себе все тяжелое, трагическое, надрывное, что сосредоточилось в истории уничтожения русского крестьянства и его самобытной культуры, дошедшего в нынешние окаянные дни до своего апогея. Эта тема дала себя знать не сразу — должно было пройти время, прежде чем пережитое, накопленное, стало воплощаться в стихи. Тряпкин отнюдь не надрывен, он отдал щедрую дань смеховой, песенно-плясовой стихии народного творчества. Не так уж мало в его наследии стихотворений, в которых он не прочь и над собой поиронизировать, и над окружающими по-доброму, а подчас и едко посмеяться. И все же, если читать его стихи в хронологическом порядке, ощущение земной тяжести и боли за утраченное время будет нарастать. Память поэта надвое рассечена рубежом, по одну сторону которого слышится «звон боевых копыт» и скрип детской колыбели, а по другую — совсем иные, тревожные звуки — треск сломанного дерева и тоскливый вой пурги. Свирель, поющая над погостом, — еще не символ конца жизни, это лишь этап, страшный отрезок, который проходят несколько поколений, дабы те, кому Бог дал, выжили и сумели донести до потомков свою горькую повесть, спеть старую, народную, исполненную удалого разгулья и сердечной тоски, почти забытую ныне песню… («Эта песенка сполюбилась нам, да промчались мы по своим костям…»). Медленно, шаг за шагом подходил поэт к эпическому сказанию о своей родословной. Первые главы его были написаны в н. 80-х, когда Тряпкин обрел былинную поэтическую мощь, когда прежние отдельные попытки совместить временные пласты соединились в единую картину трагедии, в которой органически слилось недавнее прошлое и видения набегов и захватов, переселений народов и исчезновений их с лица земли, отделенные тысячелетиями: