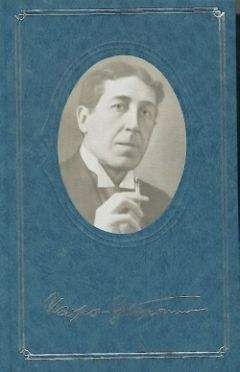В саду фруктовом груши и черешни,
В оранжерее крупный виноград
И персики. И я, как инок, рад
Бродить средь них в день светозарно-вешний.
Под осень ал колючий барбарис,
Из узких ягод чьих готовим литры
Ликера, упоительные цитры,
И наши знатоки – один, Борис,
Нарциссов принц, и Александр, принц лилий,
Ему приписывают свойство крылий,
С чем даже я, из знатоков знаток,
Не стану спорить, пробуя глоток…
Итак, для твоего, голубка, взора
Я набросал окрестность замка Орро.
От нашей хижины в полуверсте,
Он виден из окна моей рабочей
Залитой светом комнаты, где очи
Фелиссы мне твердят о красоте!
1922
Сирень расцветала белая,
Фиолевая сирень.
И я, ничего не делая,
Пел песни весь Божий день.
Тогда только пол-двадцатого
Исполнилось мне едва,-
И странно ли, что листва
Казалась душе объятою
Дыханием Божества?
На дачи стремились дачники,-
Поскрипывали возы.
И дети, закрыв задачники,
Хранившие след слезы,
Ловили сачками бабочек
И в очере козерог,
И вечером у дорог
Подпрыгивала бодро жаба,
Чеканящая свой скок.
Мы жили у водной мельницы
И старенького дворца.
Салопницы и постельницы
Там сплетничали у крыльца.
Противные вы, сплетницы,-
Единственное пятно
На том, что забыть грешно.
Пусть вам, забияки-сплетницы,
Забвение суждено.
Была небольшая яхточка
Построена мужичком,
Не яхточка, а барахточка,
Любившая плыть вверх дном…
Была она лишь двухместная,
И, если в ней плыть вдвоем,
Остойчива под веслом;
Но третьего, – неуместного,-
Выкидывала ничком…
Моя дорогая Женичка
Приехала вечерком
И, наскоро три вареничка
Покушав, полубегом
Отправилась прямо на речку,
И я поспешил за ней,
В бесшумье ночных теней
Любимую Лучезарочку
Катая, прижать тесней.
…
Всю ночь мы катались весело,
Друг к другу сердца крыля.
Подруга моя повесила
Шаль мокрую у руля.
Ты помнишь? ты не забыла ли
Того, что забыть нельзя,
И что пронеслось, скользя?
Да, полно, все это было ли?
Расплылась воды стезя.
Любимая! самая первая!
Дыханье сосновых смол!..
Была не всегда жизнь стервою -
Твердит мне твое письмо,
Летящее в дни июльские,
Пятнадцать веков спустя
(Не лет, а веков, дитя!)
Чтоб дни свои эсто-мулльские
Я прожил, о сне грустя…
Пустяк, ничего не значащий,
Значенья полн иногда,-
И вот я, бесслезно плачущий,
Былые воздвиг года.
Лета вы мои весенние,-
На яхточке пикники,
Шуршащие тростники,-
Примите благоговение
Дрожащей моей руки.
Рука, слегка оробелая…
Былого святая сень…
Сирень расцветала белая,
Фиолевая сирень!
Как трогательны три вареничка,
И яхточка, и вуаль,
И мокрая эта шаль,
И ты, дорогая Женичка,
Чье сердце – моя скрижаль!
1922 г.
Моя литавровая книга -
Я вижу – близится к концу.
Я отразил культуры иго,
Природу подведя к венцу.
Сверкают солнечные строфы,
Гремят их звонкие лучи.
Все ближе крест моей Голгофы
И все теснее палачи…
Но прежде, чем я перестану
На этом свете быть собой,
Я славить солнце не устану
И неба купол голубой!
Я жажду, чтоб свершали туры
Созвездья бурно над землей.
Я жажду гибели культуры
Ненужной, ложной и гнилой!
Я жажду вечного зеленца,
Струящего свой аромат.
Они звенят, литавры солнца!
Они звенят! Они звенят!
И в этом звоне, в этом громе,
И в этой музыке лучей
Я чувствую, как в каждом доме
Живой сверкает горячей!
1923 г.
МЕДАЛЬОНЫ
Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах
Предчувствовать грядущую беду
На всей земле и за ее пределом
Вечерним сердцем в страхе омертвелом
Ему ссудила жизнь в его звезду.
Он знал, что Космос к грозному суду
Всех призовет, и, скорбь приняв всем телом,
Он кару зрил над грешным миром, целом
Разбитостью своей, твердя: “Я жду”.
Он скорбно знал, что в жизни человечьей
Проводит Некто в сером план увечий,
И многое еще он скорбно знал,
Когда, мешая выполненью плана,
В волнах грохочущего океана
На мачту поднял бедствия сигнал.
1926
Вы помните ли полуанекдот,
Своей ничтожностью звучащий мило,
Как девочка у матери спросила,
Смотря на вздутый недугом живот:
“Он настоящий дядя или вот,
Нарочно так?” – Мы, посмотрев уныло,-
По-девочкину, на его чернила,
Вопрос предложим вкусу самый тот…
Из деликатности вкус не ответит.
Но вы – вы, подрастающие дети,
Поймете, верю, чутче и живей
Красноречивое его молчанье.
Тебе ж, певец, скажу я в оправданье:
– Ты был достоин публики своей.
1926
Великих мало в нашей жизни дней,
Но жизнь его – день славный в жизни нашей.
Вам, детки, солидарные с папашей,
Да будет с каждым новым днем стыдней.
Жизнь наша – бред. Что Санин перед ней? -
Невинный отрок, всех вас вместе краше!
Ведь не порок прославил Арцыбашев,-
Лишь искренность, которой нет родней.
Людей им следовать не приглашая,
Живописал художник, чья большая,-
Чета не вашим маленьким, – коря
Вас безукорно, нежно сострадая,
Душа благоуханно-молодая
Умучена законом дикаря.
1927
Послушница обители Любви
Молитвенно перебирает четки.
Осенней ясностью в ней чувства четки.
Удел – до святости непоправим.
Он, Найденный, как сердцем ни зови,
Не будет с ней в своей гордыне кроткий
И гордый в кротости, уплывший в лодке
Рекой из собственной ее крови.
Уж вечер. Белая взлетает стая.
У белых стен скорбит она, простая.
Кровь капает, как розы, изо рта.
Уже осталось крови в ней немного,
Но ей не жаль ее во имя Бога;
Ведь розы крови – розы для креста…
1925
Не только тех он понял сущность стран,
Где он искал – вселенец – Человека,
Не только своего не принял века,-
Всех, – требовательный, как Дон-Жуан.
Британец, сам клеймящий англичан,
За грека биться, презирая грека,
Решил, поняв, что наилучший лекарь
От жизни – смерть, и стал на грани ран.
Среди аристократок и торговок
Искал внутри хорошеньких головок
Того, что делает людей людьми.
Но женщины для песнопевца воли
Объединились вплоть до Гвиччиоли
В угрозу леди Лэмб: “Remember me”.[56]
1927
В пронизывающие холода
Людских сердец и снежных зим суровых
Мы ищем согревающих, здоровых
Старинных книг, кончая день труда.
У камелька, оттаяв ото льда,
Мы видим женщин, жизнь отдать готовых
За сон любви, и, сравнивая новых
С ушедшими, все ищем их следа.
Невероятных призраков не счесть…
Но “вероятная невероятность” есть
В глубинных книгах легкого француза,
Чей ласков дар, как вкрадчивый Барзак,
И это имя – Оноре Бальзак -
Напоминанье нежного союза…
1925
Невоплощаемую воплотив
В серебряно-лунящихся сонатах,
Ты, одинокий, в непомерных тратах
Души, предвечный отыскал мотив.
И потому всегда ты будешь жив,
Окаменев в вспененностях девятых,
Как памятник воистину крылатых,
Чей дух – неумысляемый порыв.
Создатель Эгмонта и Леоноры,
Теперь тебя, свои покинув норы,
Готова славить даже Суета,
На светоч твой вперив слепые очи,
С тобой весь мир. В ответ на эту почесть -
Твоя презрительная глухота.
1927
Искателям жемчужин здесь простор:
Ведь что ни такт – троякий цвет жемчужин.
То розовым мой слух обезоружен,
То черный власть над слухом распростер.
То серым, что пронзительно остер,
Растроган слух и сладко онедужен,
Он греет нас, и потому нам нужен,
Таланта ветром взбодренный костер.
Был день – толпа шипела и свистала.
Стал день – влекла гранит для пьедестала.
Что автору до этих перемен!
Я верю в день, всех бывших мне дороже,
Когда сердца вселенской молодежи
Прельстит тысячелетняя Кармен!
1926
Красив, как Демон Врубеля для женщин,
Он лебедем казался, чье перо
Белей, чем облако и серебро,
Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем…
Благожелательный к меньшим и меньшим,
Дерзал – поэтно видеть в зле добро.
Взлетел. Срывался. В дебрях мысли брел.
Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.
Он тщетно на земле любви искал:
Ее здесь нет. Когда же свой оскал
Явила Смерть, он понял: – Незнакомка…
У рая слышен легкий хруст шагов:
Подходит Блок. С ним – от его стихов
Лучащаяся – странничья котомка…