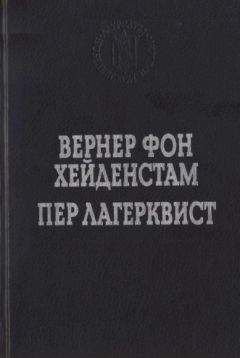А их-то ты для чего сотворил?! Что ты думал, когда создавал этих невинных малюток?!
Дети сперва засмущались и только робко оглядывались назад, на взрослых. Они не знали, что им надо делать, не понимали, чего от них хотят. Они стояли и нерешительно переглядывались. Потом потянулись к старику, окружили его кольцом. Двое самых маленьких протянули к нему ручонки, он присел на корточки, и они вскарабкались к нему на колени. Они разглядывали его большие, мозолистые ладони, трепали за бороду, тыкали пальчиками в старческий рот, он явно им понравился, этот добрый дедушка, и они прильнули к нему, и он обнял их, придерживая одной рукой.
Старик сморгнул слезы. Бережно и неуклюже-ласково гладил он малышей по головкам, пальцы у него дрожали.
Ничего я тогда не думал, сказал он очень тихо, но все его услышали. Я просто радовался им, и все.
Все стояли и смотрели на Бога, окруженного детьми, и в груди у каждого будто что-то таяло и ширилось. Мужчины старались скрыть свою растроганность, женщины же негромко всхлипывали: каждой казалось, что это именно ее ребенок сидит на коленях у Бога, что это его бог гладит по головке, и она плакала счастливыми слезами. В наступившей тишине слышались лишь негромкие всхлипывания. Все ощущали сейчас свою таинственную внутреннюю связь с Богом. Все вдруг поняли, что он такой же, как они, только глубже и больше их. То есть не то чтобы поняли, скорее угадали. Это было как чудо — все они вдруг постигли его божественную суть: благородные — через то, как он мыслил, люди же простые, живущие сердцем, которым было не до высоких материй, — через эту сцену с детьми.
Больше не было сказано ни слова. Они просто не в состоянии были выговорить ни слова; но вовсе не от смущения, а оттого, что сердца их были переполнены до краев. Они молчали, чтобы улеглось в душе то новое, что они здесь постигли, чтобы глубже проникнуться им. Молчали, потому что сейчас нужна была полная тишина. Они отрешились от своего я, чтобы целиком отдаться этому новому знанию.
Понемногу всхлипывания утихли. Сладостный покой, умиротворенность, как бывает после летнего дождя, когда влажная земля улыбается солнцу, такая умытая, такая теплая и близкая нам, охватили их. И они поняли, что их великий поход завершился успехом.
Им было трудно покидать бога после всего, что здесь произошло. Но вот наконец они все так же молча повернулись и тронулись в обратный путь. В последний раз оглянулись они на старика, который сидел все на том же месте: затем, подняв голову, шагнули в простиравшуюся перед ними тьму.
Дети никак не хотели расставаться с Богом, они просились остаться с ним. Но Он потрепал каждого по щечке и сказал, что надо идти за взрослыми, надо слушаться маму и папу, и дети повиновались. И Он остался один, стоял и смотрел им вслед, серьезный и счастливый. И вот Он скрылся из их глаз, слабый свет поглотила тьма.
И вот они снова шли и шли во тьме. Но теперь этот людской океан уже не волновался и не шумел, как то было на пути к богу, теперь он обрел покой. Неспешно ступая, молча шествовали во тьме эти неутомимые странники. Все головы были высоко подняты, все глаза широко открыты. Они шли воодушевленные, напряженно обдумывая то новое, что открылось им. Все пережитое ими во время свидания с богом, где ясное и понятное смешалось с загадкой и тайной, понемногу определялось и укладывалось у них в голове, оседало в душе — загадочное находило свое место в глубине, ясное и понятное оставалось на поверхности. Каждый думал о своем, каждый был наедине с самим собой. Но, размышляя о своем, каждый ощущал свою общность со всеми и, будучи предоставлен сам себе, был в то же время среди своих.
И понемногу, исподволь, по мере того как они продвигались вперед, такие разные сосуды наполнялись одним и тем же содержимым. И кто горделиво, кто смиренно, несли они, боясь расплескать, это содержимое — в сосудах благородных форм, придававших благородство и тем, кто их нес, либо в совсем простых, подобных тем глиняным кувшинам, с которыми ходят к горному источнику деревенские женщины, когда пересыхает летом их колодец в долине; они несли свое богатство, и было оно одинаково у всех. Мало-помалу преисполнились они все одинаковой душевной ясности, надежды и света.
И тогда они заговорили, каждый о своем, но обращаясь ко всем остальным — им хотелось быть услышанными и понятыми. Они говорили друг с другом как братья, просто и спокойно, делясь своими чувствами и мыслями по мере того, как, вызрев, они обретали определенность. Они говорили друг с другом как прежде, только гораздо спокойнее. И они не были теперь столь многословны и не употребляли таких громких слов: они не изливали душу, они делились только своей верой, тем, что принадлежало всем.
Среди них шел один человек, по лицу видно было, что он уже довольно стар, но голову он держал очень прямо, решительно глядя вперед, готовый преодолеть какой угодно путь; он сказал:
Я принимаю тебя; дорогая жизнь, такой, как ты есть, потому что никакой иной представить тебя все равно невозможно.
И он продолжал идти — со всеми вместе, молча, слушая других.
И на земле столетия сменялись столетиями, тысячелетия — тысячелетиями, поколения — поколениями; они ничего про это не знали, им это было неведомо. Они шли и шли, бок о бок, плечом к плечу.
Другой, шедший далеко позади первого, сказал:
Я верю в жизнь со всем хорошим и плохим, что в ней есть, я благодарен ей за все. Я благодарен ей за тьму и свет, за сомнение и веру, за вечер и утро. У меня есть что-то одно, у моих братьев все остальное.
А еще один, который жил, замкнувшись в себе, теперь же, освобожденный, шел вместе со всеми, как один из многих, сказал, выразив новую свою веру, придавшую ему силу и уверенность:
Всякая подлинная жизненная судьба для человека — клетка, потому что она предлагает лишь один вариант, потому что границы ее жестки и определенны, и чем жестче ее границы, тем острее дает она почувствовать простирающуюся за ними беспредельность.
И все же теперь, когда я обрел душевный покой, я знаю: именно в заключении воспаряет человеческий дух.
Еще один сказал:
Я благодарен жизни за все мои беспокойства, подарившие мне покой. Я благодарен за все мои страхи, открывшие мне ту истину, что страх не есть что-то, исконно мне присущее, от меня неотделимое.
Исконно тебе присущее знаешь и без опыта: море и в затишье, в отсутствие шторма, знает о темных своих глубинах.
Так они говорили друг с другом.
Но еще один сказал:
Пастух пас в горах свое стадо, когда где-то там, в глубине, начала клокотать лава, готовая разрушительной силой вырваться на поверхность. Он ничего не знал о происходящем, поэтому он был спокоен. Он пас на солнышке свое стадо и, отдыхая, спокойно упирал свой посох в землю и, сам на него опершись, с улыбкой погладывал вокруг.
Потом, когда разразилась катастрофа, и она отозвалась в нем, как отзывалось другое. Он простер руки к небесам и завопил как оглашенный. Значит, и это тоже он носил где-то в себе.
Но нельзя сказать, чтобы то или другое было так уж от него неотделимо. Когда он потом пас другие стада, совсем в других горах, про которые ему было известно не больше, он, отдыхая, снова спокойно опирался на свой посох, с улыбкой поглядывая на солнечную долину.
Услышанное вызвало тысячекратный отклик — все у них теперь было общее.
А на земле время шло неумолимо, проходили столетия, проходили тысячелетия. Но им это было неведомо. Они шли своим путем, спокойные, просветленные.
И вот, после долгого молчания, послышался еще один голос. И была какая-то загадочная привлекательность в этом голосе, кротком и вместе с тем решительном:
Мы знаем только про себя, об остальном можем только догадываться, наш удел — жизнь, иного нам не дано.
А другой сказал:
Если бы даже наше существование и не имело под собой никакой основы, нам следовало бы самим подвести под него основу. Дураки и глупцы сказали бы, что мы строим в пустоте. Но люди должны строить и верить. И наше строение стояло бы неколебимо, на чем бы мы его ни возвели. Потому что пустоты вообще не существует.
Так говорили они друг с другом.
И они думали про бога, представляли, как он стоит там в неугасающем свете своего маленького фонаря, и так им делалось хорошо и покойно. И они шли и шли. А за ними следовала толпа детишек, они шумели и смеялись, играли в догонялки. Они придумывали себе все новые игры, чтобы было не так скучно, и покуда взрослые делились своими мыслями, дети играли в свои игры.
Кто-то сказал:
Богатство жизни не знает границ. Никакое воображение не способно его вместить. Так чего же нам еще желать? А если нам все же захочется чего-то еще, так ведь в нашем распоряжении еще все непостижимое, не познанное нами. И стоит нам лишь руку протянуть, лишь подумать, что вот там что-то есть, — и вот оно, пожалуйста! Так чего же нам еще желать?