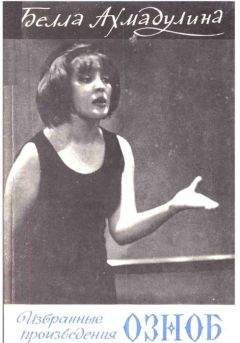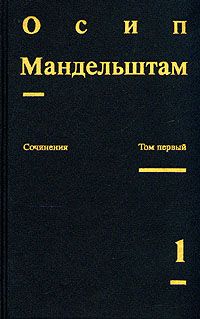Но незнакомый садовод
возделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец.
И войти зовет.
Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.
Уж минуло так много дней.
А нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.
Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю:
— Как здесь туманно…
И я здесь некогда жила.
Я здесь жила лет сто назад.
— Лет сто? Вы шутите?
— Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
моим столетьем пахнет сад?
Сто лет прошло, а всё свежи
в ладонях нежности
к родимой
коре деревьев.
Запах дымный
вокруг всё тот же.
— Не скажи! -
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил:
— Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?
Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой «причине,
вы умерли — лет сто назад.
— Возможно, но жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
а всё затем, чтоб не расстаться
с той нежностью?
Вот что смешно.
* * *
— Пока! — товарищи прощаются со мной.
— Пока! — я говорю. — Не забывайте! -
Я говорю: — Почаще здесь бывайте! -
пока товарищи прощаются со мной.
Мои товарищи по лестнице идут,
и подымаются их голоса обратно.
Им надо долго ехать — до Арбата,
до набережной, где их дома ждут.
Я здесь живу. И памятны давно
мне все приметы этой обстановки.
Мои товарищи стоят на остановке,
и долго я смотрю на них в окно.
Им летний дождик брызжет на плащи,
и что-то занимается другое.
Закрыв окно, я говорю: — О горе,
входи сюда, бесчинствуй и пляши!
Мои товарищи уехали домой,
они сидели здесь и говорили,
еще восходит над столом дымок -
это мои товарищи курили.
Но вот приходит человек иной.
Лицо его покойно и довольно.
И я смотрю и говорю: — Довольно!
Мои товарищи так хороши собой!
Он улыбается: — Я уважаю их.
Но вряд ли им удастся отличиться.
— О, им еще удастся отличиться
от всех постылых подвигов твоих.
Удачам все завидуют твоим -
и это тоже важное искусство,
и все-таки другое есть Искусство -
мои товарищи, оно открыто им.
И снова я прощаюсь: — Ну, всего
хорошего, во всем тебе удачи!
Моим товарищам ненадобно удачи!
Мои товарищи добьются своего!
* * и*
Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.
Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.
За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать «гараж» с «геранью»,
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей.
Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом -
это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.
И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Всё это так. Но вое ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.
Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»
Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.
И что-то в нем, хвали или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.
Всё остальное ждет нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, Бог не приведи!
в нескольких эпизодах, с диалогами и хором детей
I
Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно,
вновь шел за мной, как маленькая дочь.
Дождь как крыло прирос к моей спине.
Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник,
иди к цветам!
Что ты нашел во мне?
Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про всё на свете.
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.
Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.
Я спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал придти ко мне.
Я вышла. И была моя щека
наказана пощечиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.
Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моем плече, как обезьяна
сидел,
и город этим был смущен.
Обрадованный слабостью моей,
он детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Всё было сухо.
И только я промокла до костей.
Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.
Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.
Я строго объяснила:
— Доброта
во мне сильна, но всё ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично.
Дождь на меня смотрел, как сирота.
— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!
С какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он проклят!
Прощенный Дождь запрыгал впереди.
III
Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила.
Однако,
промокшая всей шкурой как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.
Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.
Шаги, глазок — молчание — щеколда.
Я извинилась.
— Этот Дождь со мной.
Позвольте он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком удлиненный
для комнат.
— Вот как? 1- молвил удивленный
хозяин, изменившийся в лице.
IV
Признаться, я любила этот дом.
В нем свой балет всегда вершила легкость.
О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.
Любила всё: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом -
мою царевну спящую — хрусталь.
Тот в семь румянцев розовевший спектр,
в гробу стеклянном, мертвый и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий
как опера станцован был и спет.
Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить не современно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.
— Как поживаете? (О, блеск грозы,
смирённый в тонком горлышке гордячки!)
— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.
(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:
— Живу хоть суетно, но славно,
тем более, что снова вижу вас.)
Она произнесла:
— Я вас браню.
Помилуйте, такая одаренность!
Сквозь дождь! И расстоянья отдаленность!
Вскричали все:
— К огню ее, к огню!
— Когда нибудь, во времени другом,
на площади, сквозь музыки и брани,
мы б свидеться могли при барабане,
вскричали б вы:
— В огонь ее, в огонь!
За всё! За Дождь! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки с уст, за косточки черешен,
летящие без всякого труда!
Привет тебе! Нацель в меня прыжок,
Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!
Лижи мне руки в нежности великой!
Ты тоже Дождь! Как влажен твой ожог!
— Ваш несколько причудлив монолог, -