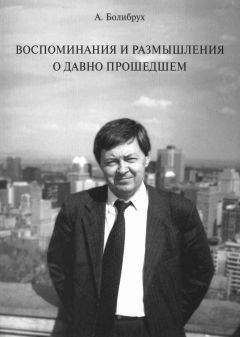На первом году аспирантуры мне пришлось делать выбор между занятиями поэзией и математикой: и то и другое требуют всего человека целиком, всех его сил, всего времени. Невозможно получить хороший результат, работая урывками по 5–6 часов в день, надо погрузиться в задачу полностью, не оставляя ее ни на секунду в течение длительного времени, целиком сконцентрироваться на ней. Точно так же вы не сможете успешно заниматься поэзией, если не будете постоянно поддерживать в себе особое настроение, то необычное мироощущение, которое, собственно, и является основой любого поэтического произведения.
Впрочем, на самом деле выбор я уже сделал, поступив в аспирантуру, а первые полученные мной результаты, мучительный поиск решения и озарение внезапного понимания сути происходящего, приносили мне ничуть не меньшую радость, чем занятия поэзией.
Но все равно мне было очень больно наблюдать, как отмирает за невостребованностью моя способность воспринимать самые тонкие нюансы, обертоны поэтических произведений, как снижается острота сопереживания и способность проникнуться мироощущением читаемого поэта. Но это неизбежная плата за выбор, за профессионализм в выбранном ремесле.
Конечно, я и сейчас с большим удовольствием перечитываю своих любимых поэтов, но то, что я при этом испытываю, не идет ни в какое сравнение с теми эмоциями, которыми сопровождалось их чтение в замечательные далекие студенческие годы.
Как часто мне приходилось слышать от моих коллег, что их жизнь на мехмате МГУ была бы прекрасна, если бы не необходимость заниматься общественными науками: историей партии, философией, политэкономией. Сколько трагических историй о загубленной аспирантуре или о неудачно сданной сессии по причине именно общественных наук можно найти в студенческом фольклоре. Скажу сразу, что никогда полностью не понимал и не принимал этих рассказов.
Мне кажется, что многие эти истории скорее говорят об интеллектуальной лени их персонажей, не способных или не желавших сделать над собой минимальное умственное усилие для того, чтобы решить эту заведомо разрешимую проблему.
Мне повезло, мое отношение к общественным наукам сформировалось под влиянием замечательного человека, преподававшего тогда курс философии на мехмате, Евгения Александровича Беляева. Я посещал на старших курсах его кружок по философии искусства, на котором впервые познакомился с работами Выготского и Потебни, прочитал с огромным интересом знаменитую книгу Бахтина «Франсуа Раблэ и народное смеховое творчество средневековья». Евгений Александрович внушил нам простую мысль: все курсы общественных дисциплин опираются на ограниченный объем фактического материала, вполне доступный для памяти студента МГУ, и основаны на очень простых правилах игры (также как и политическая жизнь, и поведенческие стереотипы общества). Для интеллекта мехматянина не должно составлять никакого труда понять эти правила и в нужные моменты действовать в соответствии с ними, поэтому любая оценка на экзамене по общественной дисциплине кроме отличной, безусловно, является позором или признаком интеллектуальной лени для математика.
Он еще дал понять, каким серьезным испытанием являлись для преподавателей истории партии и философии практические занятия по своим предметам на мехмате. Многие из них испытывали большой дискомфорт от одной мысли о встрече с мехматской аудиторией.
Действительно, было бы большим заблуждением думать, что можно поставить непонравившемуся студенту плохую оценку по политэкономии просто так. Нет, экзаменатор должен поймать студента на незнании или на неправильной интерпретации какого-либо общественного события, то есть соблюсти некие правила. Ну, а если студент знает эти правила и заведомо не глупее вас. Как быть в этом случае?
Главным условием успешного обучения по общественным наукам была активность на семинарских занятиях: надо было выступать, отвечать на вопросы, причем совершенно неважно, насколько разумными или идеологически правильными были эти выступления. Разумеется, нельзя было нарушать существующие правила: нести антисоветчину или подвергать ревизии линию партии, а в остальном вы были свободны, ибо ценилась именно активность как таковая.
Вспоминаю в связи с этим нашу преподавательницу политэкономии Н. В. Баутину, интеллектуалку и вообще очень интересную женщину, питавшую некоторую слабость к умеренному интеллектуальному хамству собеседника. Уж не помню, как я почувствовал в ней эту слабость, но, как-то выступая на семинаре и рассказывая о периоде рабфаков в 20-е годы, я сказал нечто вроде следующего: «Вот так и было принято решение о повышении культурного и научного уровня… преподавателей политэкономии». Нинель Владимировна при этом даже зажмурилась от удовольствия. Надо ли говорить, что я без проблем сдал ей впоследствии экзамен.
Активность на семинарах позволяла подчас получить экзамен автоматом, что освобождало от рутинной зубрежки материала, и я должен с удовольствием отметить, что за время обучения в МГУ не законспектировал ни одной работы классиков марксизма-ленинизма, что сэкономило мне массу сил и времени для других, более разумных дел.
Тем не менее, возникали ситуации, когда дело шло всерьез, и оценка по истории партии становилась пропуском в аспирантуру. Здесь-то и приходилось применять те навыки и понимание правил игры, о которых я рассказал выше.
До сих пор вспоминаю свой экзамен в аспирантуру по истории партии. Я сдавал его вместе со своим другом Колей Осмоловским, замечательным математиком и абсолютно лояльным гражданином: не нужно было даже заглядывать в его анкету, чтобы с уверенностью сказать, что уж это-то полностью наш человек, у которого нет и не может быть никаких политических и прочих недостатков. Тем не менее преподаватель, принимавший экзамен, решил на всякий случай попридержать Колю. Мне кажется, дело было в том, что в то время на радио «Голос Америки» был диктор с аналогичной фамилией, и в больном мозгу экзаменатора возникло некое сомнение по поводу Николая, а может быть, ему просто было скучно, и он решил немного порезвиться.
«Есть ли в СССР национальный вопрос?» — спросил преподаватель. Я замер и немного похолодел, понимая в какую непростую ситуацию угодил мой друг. Скажешь, что есть, тебе ответят «Ну как же, при развитом социализме…», скажешь, что нет, приведут примеры.
Однако экзаменатор не на того напал. «Есть, но решен» — последовал стремительный Колин ответ. Преподаватель только развел руками, поняв, что этот студент ему просто не по зубам, и экзамен для Коли благополучно закончился.
Мне же достался вопрос о речи Брежнева перед Всесоюзным совещанием студентов. Разумеется, речи этой я не читал и читать не собирался, но отвечать-то надо было. Вдохновленный Колиным ответом, я сказал себе «неужели я глупее Леонида Ильича и не смогу воспроизвести его выступление?»
Через 15 минут я набросал тезисы выступления из 12 пунктов и протянул их экзаменатору. «Очень хорошо» — сказал он — «Но у вас имеется 2 пункта, о которых Брежнев ничего не говорил». «Я знаю», — ответил я — «но они естественным образом вытекают из его обращения применительно к нашему университету. Поэтому я счел возможным добавить их при ответе». Экзаменатор был очень доволен моим объяснением и, отметив мой творческий подход к изучению истории партии, поставил итоговую пятерку.
Я, как правило, не посещал лекций по общественным наукам, лишь семинары, но однажды случайно забрел на лекцию по диалектическому материализму и получил громадное удовольствие: лектор еще на предыдущей лекции оказался втянутым в непростой вопрос о том, почему наш пространственный мир трехмерен и как раз в этот день решил поделиться с аудиторией своим доказательством необходимости трехмерия, найденным накануне.
«Возьмите точку и подвигайте ее» — сказал он — «получите прямую. Подвигайте прямую — получите плоскость, подвигайте плоскость — получите трехмерное пространство. А теперь попробуйте подвигать трехмерное пространство и снова получите то же трехмерное пространство. Вот поэтому окружающий нас мир трехмерен!» Все попытки студентов объяснить лектору ущербность такой аргументации ни к чему не привели. По-моему, впоследствии он даже где-то опубликовал это свое доказательство.
Лекции по историческому материализму нам читал знаменитый Спиркин, прославившийся научным обоснованием уфологии, науки о летающих тарелочках. Говорят, его лекции были исключительно интересны и даже забавны: на них обсуждалось все, даже сексуальные проблемы (и их место в социальной структуре общества), однако я на них не ходил. Но мне посчастливилось наблюдать, как Спиркин принимал досрочный экзамен по своему предмету у одного моего приятеля. Делалось это на бегу, возле столовой зоны «Б». Спиркин задал моему приятелю всего один вопрос: «Скажите, то, чем вы занимаетесь со своей девушкой наедине во время свидания, это общественное явление или личное?» и удалился в столовую. Через 30 минут мучительно размышлявший студент ответил вышедшему преподавателю: «Общественное». «Нет, личное» — сказал на это Спиркин, поставил в зачетку четверку и удалился.