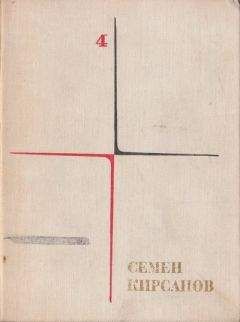НА БЫЛИННЫХ ХОЛМАХ (1966–1970)
Весь день по Крыму валит пар
от Херсонеса
до Тамани.
Закрыт забралом полушар —
обсерватория в тумане.
Как грустно!
Телескоп ослеп,
на куполе капе́ль сырая;
он погружен в туман, как склеп
невольниц,
звезд Бахчисарая.
В коронографе,
на холме,
еще вчера я видел солнце,
жар хромосферы,
в бахроме,
в живых и ярких заусенцах.
Сегодня все задул туман,
и вспоминаю прошлый день я
как странный зрительный обман,
мираж в пустыне сновиденья.
Туман,
а за туманом ночь,
где звезды
страшно одиноки.
Ничем не может им помочь
их собеседник одноокий.
Темно.
Не в силах он открыть
свой глаз шестнадцатидюймовый.
Созвездьям некому открыть
весть о судьбе звезды сверхновой.
Луну я видел
с той горы
в колодце
чистого стекольца:
лежали как в конце игры
по ней разбросанные кольца.
Исчезли горы и луна,
как фильм на гаснущем экране,
и мутно высится
одна
обсерватория в тумане.
Я к башням подходил не раз,
к их кругосветным поворотам.
Теперь —
молекулярный газ,
смесь кислорода с водородом,
во все проник,
везде завяз,
живого места не осталось.
Туман вскарабкался на нас,
как Крабовидная туманность.
Вчера,
когда закат погас,
я с поднадзорным мирозданьем
беседу вел
с глазу на глаз,
сферическим укрытый зданьем.
Я чувствовал объем планет,
и в Мегамир сквозь светофильтры
мы двигались,
как следопыты.
И вдруг — меня на свете нет…
Я только пар,
только туман,
плывущий вдаль,
валящий валом,
вползающий в ночной лиман,
торчащий в зубьях перевалов,
опалесцентное пятно
вне фокуса,
на заднем плане…
И исчезаю — заодно
с обсерваторией,
в тумане…
В Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах
купола —
как славянские головы в древних шеломах
в чернобыль и татарник
погружены.
Эти головы медленно поворачиваются
от забытых курганов
к Весам и Стрельцу.
На гравюрах к поэме «Руслан и Людмила»
я их видел
в издании для детей.
Они думают
снимками фотографическими
и незримые звезды упорно рассматривают,
мыслят
линиями спектральных анализов,
чуют пятна спиральных галактик,
но в сущности —
это головы сказочных богатырей,
в незапамятных сечах
мечами отрубленные
Пушкин их рисовал,
над стихами задумавшись,
на полях своих вещих черновиков.
Но и эти
пером испещренные рукописи
тоже снимки следов
нуклеарных частиц…
Черномор —
это черные клочья туманности,
где в сетях изнывает Людмила звезды.
Там за нею следят
и притворно прислуживают
голубые гиганты
и желтые карлики,
а сверхплотное тело, сидящее в центре,
тащит всю эту челядь к себе.
Это все раскрывается после двенадцати
в сновидениях
спящих богатырей,
когда под заколдованным мирозданием
светят только карманные фонари,
чтобы нимбы вечернего освещения
не мешали
поэтам и наблюдателям
в Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах.
Отцом среди своих планет
и за Землей следя особо —
распространяло Солнце свет
(но чувствовалось, что оно поеживается от озноба).
В мильоны градусов озноб
пятнал сияющее тело
(иногда оно выбрасывало с васильками и кашкою сноп
и беспристрастно вновь блестело).
Отцовски спокойное, оно заходило за Монблан,
но багровело над Камбоджей,
и было ясно, что Земля
озноб испытывает тот же.
И я не мог ни лечь, ни сесть
(по статистическим данным это происходило со всеми).
Знобило. Тридцать семь и шесть.
Что делать? — Всё в одной системе!
СОЛНЦЕ ПЕРЕД СПОКОЙСТВИЕМ
Беспокойное было Солнце,
неспокойное.
Беспокойным таким не помнится
испокон веков.
Вылетали частицы гелия,
ядра стронция…
И чего оно не наделало,
это Солнце!
Прерывалось и глохло радио,
и бессовестно
врали компасы,
лихорадила
нас бессонница.
Гибли яблони, падал скот
от бескормицы.
Беспокойное
в этот год
было Солнце.
Вихри огненно-белых масс
на безвинную Землю гневались.
Загоралась от них и в нас
ненависть.
Мы вставали не с той ноги,
полушалые…
Грипп валил
одно за другим
полушарие.
Соляными столбами Библии
взрывы высились.
Убивали Лумумбу,
гибли
в петлях виселиц.
Ползать начали допотопно
бронеящеры.
Государства менялись нотами
угрожающими.
Все пятнистей вставало Солнце,
тыча вспышками,
окружаясь
кольцами
ко́нцен−
трическими.
Рванью пятен изборожденное
безжалостно —
в телескопах изображение
приближалось к нам.
Плыл над пропастью Шар Земной
в невесомости…
И казалось:
всему виной
в небе Солнце.
Но однажды погожим днем
было выяснено,
что исчезло одно пятно
ненавистное.
Солнце грело косым лучом
тихо, просто,
отболевшее, как лицо
после оспы…
О, милый мир веселых птичьих гнезд!
Их больше нет.
Несчастная планета
попала в дождь из падающих звезд
с диаметром
от мили до полметра.
Шальные звезды
мчатся вкривь и вкось,
шипят и остывают в мути водной.
Как много их, беспутных, пронеслось,
и ни одной
спокойной, путеводной.
— Тревога!.. —
рупор хрипло говорит.
Прохожих толпы прячутся в воротах.
Но где настигнет нас метеорит?
Где нас раздавит ржавый самородок?
Уже так было с Дублином.
За миг
покончено с Афинами и Веной.
В секунду
камень огненный возник
и изменил пейзаж обыкновенный.
Проходит год,
и не проходит дождь.
И общая тревожность стала бытом.
Кто может знать, когда и ты найдешь
себя,
звездой безжалостной убитым?
Железо вылетает из небес.
А люди стекла круглые наденут
и шепчутся:
а может быть, не здесь,
а может, пролетят и не заденут?
Один сидит на башне, нелюдим,
считает блестки мчащегося скопа,
он — астроном.
Он всем необходим,
как врач, с бессонной трубкой телескопа.
Среди все небо исписавших трасс
он вспоминает на седле тренога
от тихий век,
когда пугала нас
наивная воздушная тревога.
В который раз
на снимке видит он
за миллионы километров сверху
кишащий метеорами район,
подобный праздничному фейерверку?
А здесь, —
глаза двух полюсов кругля,
бежит, вздымаясь светом Зодиака,
огромная
бездомная Земля,
добитая камнями,
как собака.