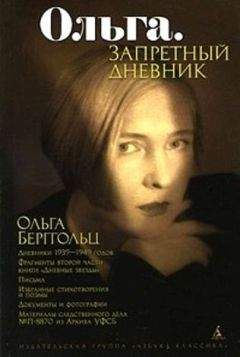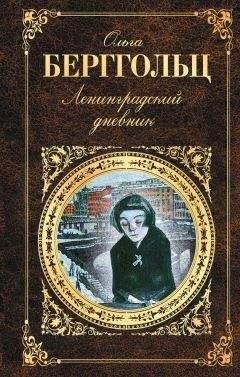Я внутренне все время рыдала, слушая первую часть, и так изнемогла от немыслимого напряжения, слушая ее, что середина как-то пропала. Слыхали ли ее в Ленинграде, наши! Мне хочется написать им об этом. Может быть, это можно будет передать по радио. Я завтра зайду к Шостаковичу, подарю ему свою поэмку, попрошу его написать несколько строк для ленинградцев и, если удастся написать о концерте, отправлю в Ленинград с оказией.
1/IV-42
Позавчера — огромные письма от Юрки, — пламенные и нежные до безбоязненности.
Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви «давно, безраздельной»; узнав, что ребенка нет, зовет в Ленинград. Наверное, он и в самом деле любит меня; странно, что это удивляет меня, вызывает какое-то недоумение, сомненье, — а вот Колина любовь была для меня несомненна и вызывала изумление гордое, я гордилась собой за то, что он меня любит. Я все еще ощущаю, и особенно после Колиной смерти, Юрку как чужого и испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему, не любил его, я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И из-за этого я испытываю к нему неприязнь, что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную, он нравится мне, он мне мил и дорог. Позавчера была почти счастлива от его писем и думала о Ленинграде уже не как о месте гибели, но как о месте жизни, где дышать можно будет, — здесь я ничего не делаю и не хочу делать, — ложь удушающая все же! — здесь я томлюсь, и жизни во мне — только любовь к Муське. Но я уже вся — в Ленинграде. И когда я вернусь в Ленинград, я, наверное, буду любить Юрку настолько, насколько могу чувствовать сейчас вообще.
Я — баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик.
Иногда я думаю, — а, смерть на носу, солнце мое, <неразб.>, Колька, — я отдам Юрке остатки сердца, — куда их мне, отдам ему счастье, которого он жаждет… Да, так и надо, надо отпустить сердце.
Но он стоит передо мною таким, как я видела его последний раз: со скрещенными, сведенными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрепил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны… Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда, — не предала, а оказалась слабой и малодушной.
Как зовет меня к себе Юрка! Но ведь это — изменить Коле!
Я НЕ ИЗМЕНЯЛА ему, — никогда. Отдать сердце Юрке — изменить ему…
Надо написать для радио о Хамармере, обещала им же об отце, но об отце писать не буду. Если не написать о нем всего, и о себе тоже — значит, соврать, а врать о Ленинграде я не хочу. Юрка правильно чувствует, что работать я могу только в Ленинграде; я написала им о концерте Шостаковича, по-моему, хорошо вышло. Жаль, если он не напишет ничего для Ленинграда, если ему не понравится «Февр. дневник», который я дала ему прочитать. У меня приняли книжку, приняли в «Кр. новь» «Февр. дневник», он вообще пользуется здесь огромным успехом вплоть до Ц. К. У меня сейчас хорошее имя. Зачем портить его ложью?
О Хамармере напишу во весь голос и не дам портить. Видимо, на этом мои отношения с радио кончатся. Ну, попробую написать о нем, потом выпьем с Мусей и буду писать стихи.
Скорей бы в Ленинград! Только как вот Муська моя! Как страшно с нею разлучаться! Э-хх, жизнь!
2/IV-42
Дни бегут неудержимо. Я, так сказать, не сделала в Москве ничего существенного. Полагаю, что этим не стоит удручаться, — все это было нужно только ради суеты. Правда, надо еще сделать попытку напечататься в «Правде». Но кое-что печатать не хочется, «Февр. дневник» не напечатают, а новое — не пишется. Вот даже Хамармера никак написать не мету, а о Ленинграде — и подавно невозможно. После смерти Коли ложь стала совершенно для меня непереносимой.
Я, вообще, могу сейчас писать только о себе и только в связи с его смертью, даже не упоминая его. Эгоцентризм горя, видимо. Да, я очень мало «преуспела» в Москве. Ничего! Не в этом дело. Зато я не «затруднялась», как говорил Колька. Да. Нет смысла затрудняться, — и так паршиво жить, зачем создавать себе дополнительные тяготы в виде тщеславия и т. д.
3/IV-42
До удивления обкидало какой-то пакостью все лицо и даже грудь, — никогда ничего подобного не было. Наверное, перехватила витаминов — и вот, диатез… А впрочем, — неважно.
Получили письмо от отца, с какой-то станции Глазовой[112] от 28/III. Он пишет: «родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия[113] и т. д.), но освободите меня отсюда». Он едет с 17/III, их кормят один раз в день, да и то не каждый день. В их вагоне уже 6 человек умерло в пути, и еще несколько на очереди. Отец пишет: «силы гаснут, страдаю животом…» Он заканчивает письмо — «простите меня за все худое…».
Боже мой! За что же мы бьемся, за что погиб Коля, за что я хожу с пылающей раной в сердце? За систему, при которой чудесного человека, отличного военного врача, настоящего русского патриота вот так ни за что оскорбили, скомкали, обрекли на гибель, и с этим ничего нельзя было поделать? А ведь «освободить» отца почти невозможно. Кто же будет заниматься спасением какого-то доктора? «Спасати народ»! К кому кинуться? Писать челобитные — я же знаю по опыту, что это просто волокита. Попробую поговорить завтра с Фадеевым[114], но разве этот вельможа сделает хоть что-либо реальное? Вот центр, клуб НКВД просит устроить им вечер и выступить у них. М. б., там удастся растрогать кого-нибудь из чинов и добиться до Берия или кого-нибудь в этом роде? Все это бесполезно, я знаю, но буду пробовать. Если отец выживет, он доберется до Красноярска, куда его направляют, — а м. б., он уже погиб? Где искать его? Кто этим сейчас будет заниматься? О, подлость, подлость.
Хотела писать для радио о Хамармере и стихи о себе для «Правды» — и после письма отца ничего не могу, — отрава заливает, со дна души поднялись все пузыри, все обиды. Черт знает что, преследуют и преследуют с самой юности — и меня, и друзей, и близких, да за что же, доколе же… Может быть, Коленька мой и впрямь счастливей меня?!
7/IV-42
В ночь на 4/IV на Ленинград было сброшено 200 бомб, гл. обр. на Васильевский остров, на корабли. На В. О. разрушено 40 домов. Юрка, Юрка! На город шло 130 самолетов, прорвалось 50. Налет длился час. О, Юрка! Миновал ли его этот час смерти? Где он был в это время, в городе?
Неужели я и тут опоздала? Какие неласковые письма писала я ему отсюда, — я даже ни разу не написала «люблю», — а он жаждет, чтобы я говорила ему это. Коля держал меня, я не могла написать этого, хотя писала ему, что он дорог мне, что я хочу быть с ним…
А город-то, бедный город, люди его: истерзанные голодом, обессилевшие — и еще это!
9/IV-42
Вчера получила письмо от Юрки от 3/IV, полное любви и преданности. 3/IV он был жив. Оказывается, я написала-таки в одном из писем — «люблю». Сама не помню, что писала. Ну, и хорошо, что написала, — он пишет, что счастлив, и, м. б., верно — счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен. Я несчастлива в полном, абсолютном значении этого слова. Сегодня все время приступами — видение Коли во второе мое посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, все время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку. О, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен, — еще в первый день, в день безумия, он был красив, и тут — вдруг не он, хуже, чем во сне.
Мне нельзя жить. Это все равно не жизнь. Я оправдываю свое существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели. Я, наверное, недолго просуществую, — все как-то, помимо меня, логически идет к этому, сокращается и сокращается жизнь, сжимается, как шагреневая кожа, — и вот человеку остается только одно — умереть; и если человек видит и знает, что она сокращается, — это ужас, этот человек несчастен.
В душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя, становлюсь равнодушной к людям или воспринимаю их только через себя — вот как сегодня такого же несчастного, как я, Юльку Эшмана[115]. Он потерял жену, отца, — теперь, видимо, мать и брата.
— Как ты живешь, — спросила я его.
— А я не живу, — ответил он. — Если живу, то только дочкой.
Мы сидели с ним в троллейбусе, плечом к плечу, и говорили — он о жене, я о Кольке. Оба чувствовали себя глубоко виноватыми перед ними, и я на мгновение ощутила всем существом, что у нас совершенно одно горе.
— Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны, — спросила я его.