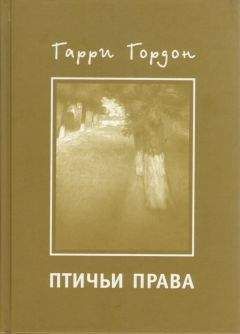КОМАРИК
I
Только головы уроним,
Взявшись за руки, как встарь,
Прилетает посторонний,
Одиночка и кустарь.
И, полоской лунной пыли
Воздух нежно теребя,
Нас безжалостно распилит
На меня и на тебя.
II
Он угодил не в глаз, а в бровь,
И с музыкой — в полет.
И вот летает моя кровь,
Летает и поет.
Присядет на твою ладонь,
И взмоет, укусив,
В бордовое вплетая
До Ликующее Си.
Лети подальше от скорбей,
Сквозь яблони в цвету,
Покуда грузный воробей
Не склюнет на лету.
«Посмотри окрест ли, наверх…»
Посмотри окрест ли, наверх, —
В божьем мире ни души.
Только щелкают в канавах
Ледяные камыши.
Только волки-кривотолки
Прячут желтые глаза.
В новогодней темной елке
Изумруд да бирюза.
Затолкал в печурку плаху,
И под шум внезапных крыл
Справил новую рубаху,
И калитку приоткрыл…
«В какой-то усадьбе-музее…»
В какой-то усадьбе-музее,
Где мы побывали когда-то,
Портреты картинно висели,
Лампадками теплились даты.
Смешались эпохи и стили,
Стекло помутнело в пыли,
И музы с плафонов спустились,
И в подпол мышами ушли.
Откуда же знает старуха
Вся в пепле портретных жемчужин,
Что дом ее все же не рухнул,
И даже кому-нибудь нужен?
Откуда же столько суровой
Уверенности в победе
В глазах у того молодого
Военного в темном портрете?..
Балкон мезонина дощатый,
Грибами пропахли перила,
Кружила ворона, и чья-то
Забытая память парила.
«Крепко сидят журавлиные клинья…»
Крепко сидят журавлиные клинья
В памяти. Все сначала —
Пятнышко света на горькой калине,
Черные доски причала.
Как, наглотавшись дождя или шквала,
Пели. Не сразу, но пелось.
И вертикально над нами вставало
Гибкое озеро Пелус.
Хлопало перистыми краями,
Крупными звездами скалясь.
На Бодунове в маленькой яме
Тетерева плескались.
Гагара печальная в черной шали
Пока что не улетела.
В мокрой деревне еще дышали
Два стариковских тела.
Нынче же там и зимой и летом
По-человечьи дико.
Лишь наливается льдистым цветом
Ягода неживика…
«Мой мальчик не желает танцевать…»
Мой мальчик не желает танцевать.
В осенней мгле ступни большие мочит,
Вино лакает, голову морочит,
Но только не желает танцевать.
Ни краковяк ему не по нутру,
И ни фанданго. Встанет поутру,
После того, как прошумит полночи,
Умоется, а танцевать не хочет.
Я умоляю: — Ну хотя бы па,
Ногой туда, ногой сюда, не сложно…
Нахмурится и отвечает: — Па!..
И говорить с ним дальше невозможно.
Но, слава Богу, не берет в расчет
Дурного глаза и худого взгляда,
А танцевать не хочет, — и не надо,
Наверно, не приспичило еще.
То были хорошие дни.
Пустырь у районной больницы,
Средь пижмы и медуницы
Больные торчали, как пни.
И я назывался — больной.
Мы солнышка ждали, как дети.
Страданья, болезни и смерти
Бетонной больничной стеной.
В провалах, проемах, проломах
Фигуры друзей и знакомых
Являлись передо мной.
В особенно яркие дни
Сверкали колени и локти,
И пуговица на кофте.
Все прочее было в тени.
Я сладкий жевал пирожок,
И, слушая, мало что слышал:
Все ждал позволения свыше
Покинуть цветущий лужок.
«В толще домашнего плена…»
В толще домашнего плена,
В гулком своем этаже
Старая девочка Лена
Пишет стихи о душе.
Строчка за строчкой — помарка,
Выдох за выдохом — стих.
Что ж не приходит Тамарка…
Десять окурков в горсти.
Старая девочка Лена
Кофе без сахара пьет,
Пеплом осыпав колено,
Песни блатные поет.
Песни отцовского детства
Давят полуденным сном…
Персиком пахнет Одесса,
Пеплом и кислым вином.
Песня за песенкой — месса,
Строчка за строчкой — душа.
Лена поет «за Одессу»,
Как никогда, хороша.
«Вся кухня в бабочках ночных…»
Вся кухня в бабочках ночных,
Сиреневых и серых.
На пыльных крылышках у них
Значки нездешней веры.
У той — чугунного коня
Серьезная улыбка,
Другая смотрит на меня
Насмешливо и зыбко.
Вторую ночь я не ложусь,
Замучили глаголы.
Вторую ночь я им кажусь
Бессмысленным и голым.
И вот, усевшись, кто куда,
На чайник и на ступку,
Они притихли, как вода,
Ждут от меня поступка.
А мы отвыкли поступать,
Как велено природой.
А мы привыкли отступать
Поэмой или одой.
Но, терпеливые, они,
Не принимают слова.
Бог знает, где проводят дни,
И прилетают снова.
«— Ну, где тебя носило?…»
— Ну где тебя носило? —
Жена меня спросила
В двенадцатом часу.
Конфорку погасила,
Достала колбасу.
Я не подал и виду.
Но проглотил обиду
С борщем и колбасой.
Я что-то красил где-то,
И ехал без билета,
Расплющенный в автобусе,
От холода косой.
Кого-то где-то носит,
В чем мама родила,
Никто его не спросит,
Не спросят: — Как дела?
«Ирония, Хохма Израйлевна, хватит с меня…»
Ирония, Хохма Израйлевна, хватит с меня
Радости недопития, мудрости дули в кармане.
Скрипочка с подковырочкой, над горестями труня,
Не развлечет, не утешит, тем более — не обманет.
Время ворчать и талдычить, и все принимать всерьез,
Милости от природы медленно ждать, уважая,
В зарослях простодушия какой бы не вырос курьез —
Буду душою равен этому урожаю.
От изящной словесности, стало быть, отрекусь,
Мечтательной выпью заткнусь, прямо тут на болоте…
Родственник бедной Хохмы, старый бездельник
Вкус Ходит на тонких ножках и нос раздраженно воротит.
I
Брошен ворохом на воду
Хворост карандашных линий,
И привиделась природа
Семилетней Катерине.
Померещилось, что вместо
Желтых листьев, хлопьев белых —
Бесконечное семейство
Пузырьков окаменелых.
Известняк шершавым боком
Забелел в разгаре ночи —
Слабый свет мельчайших окон,
Монолит из одиночеств.
Я ли в эти откровенья
Не проник от А до Яти…
Но звучит благословенье
В хрупком знании дитяти:
Неразумным, лишним словом
В скучном и бесстрастном тоне,
Каплей воздуха живого
В чугуне или бетоне.
II
Каракулей беспечных серый хворост,
Спокойствие в осиннике густом,
Упорно продираемся сквозь хворость
Жасминных и калиновых кустов.
Нужна вода для глубины картины.
И коронует этот грустный вид
Старинный пруд в разводах темной тины,
А в бочаге утопленник стоит.
Подводными теченьями колышим,
Он всплыл бы к отраженным берегам,
И пузырьком на свежий воздух вышел,
Когда бы не колосники к ногам.
Была бы глубина, а тайна будет,
И суть невсплывшая останется ничьей…
Между стволами серебрятся люди,
Дорожка из толченых кирпичей.
В расплывшейся листве скопилась влага,
И промокает небо, как бумага.
III
— Наденьте головной убор,—
Вздохнула мама.
Обходим оживленный двор
Универсама.
Хлопочет здесь толпа ворон:
Зачем поля им, когда еда со всех сторон.
Идем, гуляем.
Идем, гуляем. В пустыри
И буераки,
Там лопаются пузыри, —
Зимуют раки,
Там что-то по ночам шуршит,
Топорщит ушки,
И в заморозки хороши
Грибы чернушки.
Там облака тусклее льда.
Калитка в поле,
Сад, облетевший навсегда, —
Дрова, не боле.
Калитка на одной петле,
И ветер тихо
Толкает от себя к себе,
Ни вход, ни выход…
За кольцевой дорогой, без
Конца гудящей,
Застыл великолепный лес,
Как настоящий.
IV
В теплой маслянистой охре
Пропадает первый снег.
На бечевке рыба сохнет
В затуманенном окне.
Чем избушка та хранима,
Век рассыпался, как мел.
Время — это все, что мимо,
Все, чего ты не сумел.
Прогнила под крышей балка,
Снег летит, как саранча.
Где-то тявкнула собака,
И бульдозер зарычал.
V
Опять малинового цвета
На горизонте полоса.
Как все-таки легко поэтам —
Что захотел, то написал.
А мы рисуем человечка
С воздушным шариком в руке,
За ним закат стоит, как печка,
И блики прыгают в реке.
Опять ошибка за ошибкой,
Закат не ладится, хоть плачь,
Не получается улыбка —
Какой-то розовый калач.
VI
По стеклу литая
Катится вода.
Человек летает —
Это не беда.
Никому не назло,
И не на пари.
Издавна навязло:
Плюнь и воспари.
Глянцевый, как брошка,
Огибает клен,
Светом из окошка
Снизу озарен.
Золотом латают
Бездну облака,
Человек летает
Запросто, пока
Собрались у печи,
Спаяны огнем,
Коротаем вечер,
Думаем о нем.
А погаснет дверка,
Холодом дохнет —
Дернется, померкнет,
Ниточку порвет,
Сгинет понапрасну
В мороси ночной,
Расползется кляксой
По трубе печной.
VII
По шестнадцатиэтажкам
Эхо скачет, как ядро.
Тапочки, штаны, рубашка,
Да помойное ведро.
— Катерина, Катя, где ты,
Все живое дома, спит,
Только папа неодетый
Мусорным ведром скрипит.
Качели из железа
Болтаются в ночи.
Скрипят, из кожи лезут,
А девочка молчит.
И воздух темно-синий
Хватает полным ртом.
Пожалуй что простынет,
Но все это потом.
Шестнадцатиэтажка,
Одиннадцатый час…
Пожалуй, будет тяжко,
Но это не сейчас.
«Не припомню, я был или не был тяжел и прожорлив…»