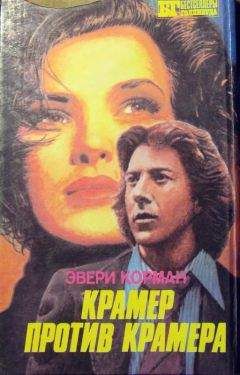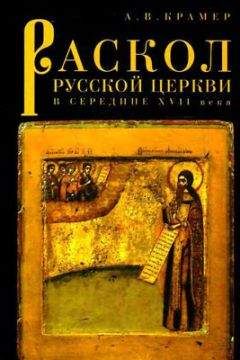О черном вине
Ты — пот, что катится со лба,
твои пары густы.
Тебя не свозят в погреба,
не бродишь в бочках ты.
Отрада нищих горемык,
но им в тебе дано
найти забвенья краткий миг,
ты, черное вино.
Кто раз глотнул тебя в бреду —
уже чужак в миру:
ему — пылать на холоду,
и замерзать в жару,
и горько всхлипывать, любя:
уж так заведено
для всех, кто раз испил тебя —
ты, черное вино.
С тобой сдружившись, ни о чем
не думать мог бы я,
но знаю — бьет в тебе ключом
избыток бытия.
Я боя не веду с судьбой,
я осознал давно:
я счастлив тем, что пьян тобой,
ты, черное вино.
И ржавые бороздки
ограды цветника,
и катышки известки
в сетях у паука,
и клен, что крону клонит, —
я в мире всё хвалю.
Лишь вихрь листву погонит —
я сразу во хмелю.
Я в мокром каземате
не прокляну судьбу,
га каменной кровати
и в цинковом гробу,
мне все предметы служат,
и я любой люблю,
коль вихрь листву закружит —
я сразу во хмелю.
Сухой листок на жниве,
земли комок сырой,
я только тем и вживе,
что вижу вас порой;
опять язык трепещет,
губами шевелю:
коль вихрь по листьям хлещет —
я сразу во хмелю.
Как мне жаль, что отцветает рапс
Как мне жаль, что отцветает рапс,
что до слез не прошибает шнапс,
как мне жаль, что нынче лунный серп
всё вернее сходит на ущерб;
как мне жаль, что старый посох мой
позаброшен летом и зимой,
что крушины белопенный цвет
не рванет мне сердца напослед.
Как мне жаль, что час настал такой,
как мне жаль, что близится покой,
как мне жаль, что скоро в тишине
не услышу я, как больно мне.
Одной обечайки, да двух лоскутов,
да палочек — хватит вполне,
чтоб был барабан немудреный готов,
а с ним — и конец тишине:
затми же рассудок и дух опали,
и пламени кровь уподобь,
раскатом глухим то вблизи, то вдали
бурли, барабанная дробь!
С восторгом, заслышав побудку твою,
выходят в атаку полки,
солдаты живей маршируют в строю,
дружней примыкают штыки.
И в джунглях гремит негритянский тамтам,
взрывая ночную жару,
за духами злыми гонясь по пятам,
сородичей клича к костру.
Так дождь барабанит впотьмах по стеклу
и листья с размаху разит,
так пальцами некто стучит по столу
и гибелью миру грозит, —
гремит барабан, ежечасно знобя
того, кто в бездумном пылу
в Ничто увлекает других и себя,
твердя барабанам хвалу.
Отчаянье, остаток
надежды бедняка!
Миг промедленья краток,
а цель — недалека:
негоже обессилеть,
не довершив труда:
веревку взять, намылить
и прянуть в никуда.
Ты — всех недостоверней
средь образов земли:
ты носишь имя зерни,
ножа, вина, петли, —
страданий вереница,
соблазнов череда —
ты — сумрачный возница,
везущий в никуда.
Кто пал в твои объятья —
уже не одинок.
Тебя в себе утрать я —
я б дольше жить не смог.
Побудь со мной до срока,
дай добрести туда,
где встану я пред око
Последнего Суда.
По стеклам ливень барабанит,
последний флокс отцвел в саду.
Я все еще бываю занят —
пишу, работаю и жду.
Пусть кровь порядком поостыла,
пусть немощей не перечесть —
благодарю за все, что было,
благодарю за все, что есть.
До щепки вымокла округа;
пусты скамейки; вдалеке
под рваным тентом спит пьянчуга,
девчушка возится в песке.
Переживаю виновато —
а в чем виновен я — Бог весть —
и тот потоп, что был когда-то,
и тот потоп, что ныне есть.
По стеклам ливень барабанит,
внахлест, настырный и тугой;
но прежде, чем меня не станет,
я сочиню стишок-другой.
Хоть жизнь меня не обделила,
но не успела надоесть:
благодарю за все, что было,
благодарю за все, что есть.
Насущное дело: хочу, не хочу…
Насущное дело: хочу, не хочу —
пора показаться зубному врачу:
пускай бормашина с жужжанием грозным
пройдется по дуплам моим кариозным;
хотя пациент и в холодном поту —
зато чистота и порядок во рту.
Насущное дело: хочу, не хочу —
дойти до портного часок улучу:
на брюках потертых не держатся складки,
опять же и старый пиджак не в порядке:
недешево, да и с примеркой возня —
зато же и будет костюм у меня.
Насущное дело: хочу, не хочу —
над письмами вечер-другой проторчу;
какое — в охотку, какое — не в жилу,
однако отвечу за все через силу,
утешу, кого и насколько смогу:
приятно — нигде не остаться в долгу.
Насущное дело: хочу, не хочу —
но годы загасят меня, как свечу,
порядок вещей, неуместна досада,
еще по обычаю разве что надо
поплакаться: доктор, мол, больно, беда —
и сердце счастливо замрет навсегда.
Когда вино лакается беспроко,
ни горла, ни души не горяча,
и ты устал, и утро недалеко —
тогда спасает склянка тирлича.
В нем горечи пронзительная злоба,
он оживляет, ибо ядовит:
пусть к сладости уже оглохло небо,
однако горечь все еще горчит.
Когда, на женщин глядя, ты не в духе,
и не настроен искушать судьбу —
переночуй у распоследней шлюхи,
накрашенной, как мумия в гробу.
К утру подохнуть впору от озноба,
и от клопов — хоть зареви навзрыд:
пусть к сладости уже оглохло небо,
однако горечь все еще горчит.
Когда перед природой ты бессилен,
и путь лежит в безвестье и туман —
под вечер забреди в квартал дубилен
и загляни в загаженный шалман.
Обсиженная мухами трущоба,
зловоние и нищий реквизит:
пусть к сладости уже оглохло небо,
однако горечь все еще горчит.
О пребывании один на один
С каждым однажды такое случается: вдруг
вещи как вещи внезапно исчезнут вокруг.
Выпав из времени, все позабыв, как во сне,
ты застываешь, с мгновением наедине.
Наедине с перелеском, с тропинкой косой,
с житом и куколем, сеном и старой косой,
с грубой щетиной стерни, пожелтевшей в жару,
с пылью, клубящейся на придорожном ветру.
С волосом конским, что прет из обивки, шурша,
с пьяницей, что до получки засел без гроша,
с водкой в трактире, едва только шкалик почат,
с пепельницей, из которой окурки торчат.
К злу и добру в равной мере становишься глух,
ты — и волнующий шум, и внимающий слух.
Пусть через годы, но это придет из глубин:
знай же тогда — ты со мною один на один.
Мы трое — голодные, мы — оборванцы,
конечно, почтенный судья!
Один — от папаши сбежал, от пощечин,
другой же — чахоткой измаялся очень,
а третий опух, — это я.
Конечно, конечно, еще раз подробно:
мы прятались за валуны,
девчонка по гравию шла и похожа
была бы на лань, каб не дряблая кожа,
а темя-то вши, колтуны.
Так сладко брела она сквозь забытье;
ну, тут мы, понятно, поймали ее,
смеркалось, темнело;
мы справили дело,
а слезы… ну, будто она не хотела!..
Какая-то птица затенькала тонко,
порой, как монетки, звенела щебенка,
а так — тишина,
одна тишина,
как будто и жизнь-то уже не нужна.
На рану ее мы пустили рубашки;
поймают — мы знали — не будет поблажки.
Вот весь мой рассказ…
О свет моих глаз,
о девочка, разве болит и сейчас?
Почтенный судья, все же сделай поблажку,
скорее всех нас упеки в каталажку,
там вечный мороз, —
а если всерьез —
так лучше не помнить ни мира, ни слез.