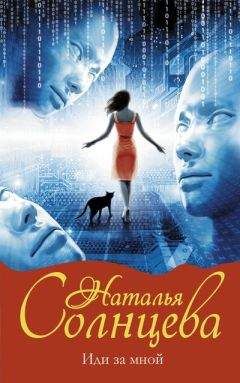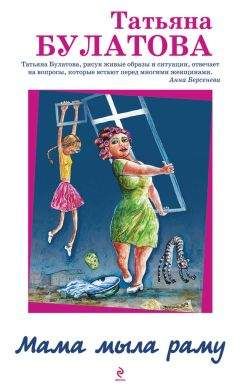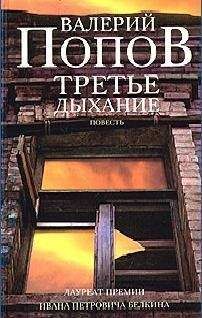Дипломная работа уже давно запропастилась куда-то. Думаю, филология эту потерю переживет. Но меня, помню, радовало, что это не школьная рутинная критика символизма слева, а критика с позиций стоящей поэзии – взгляд живых цветов на бумажные.
От исследовательского азарта я не удосужился поинтересоваться, как их, эти дипломы-то, у них принято писать. Совершенно не помню руководителя. Но я славно потрудился, сдал увесистую машинопись в срок и чувствовал себя молодцом. И, чего уж греха таить, держал в уме, что случается, редко, но случается, когда дипломная работа приравнивается к диссертации. Но как-то в факультетском буфете за несколько дней до защиты я поймал на себе странный взгляд декана (он брал кефир с подноса, а я стоял в конце очереди). Так непрязненно-внимательно вряд ли смотрят на восходящую звезду науки. Такой взгляд скорее предполагает словосочетание “ну и ну…”. И я начал с тревогой заглядывать в библиографии сокурсников, вернее, сокурсниц – филфак как-никак. А там во главе списка – Маркс, Ленин, Горький. Энгельс, Ленин, Луначарский. Маркс, Горький, Метченко. А у меня, умника, – Шлегель, Флоренский, Шестов.
На защите царила загадочная атмосфера. Меня трепали, но как-то вполсилы, будто другая половина негодования висела в воздухе, но предназначалась не мне. Так отец, воротясь домой, жучит ребенка, уделавшего манной кашей ему компьютер, но ноздри раздувает в адрес жены, прилипшей к телевизору в соседней комнате. И после вялой выволочки меня отпустили во взрослую жизнь с “четверкой” и формулировкой “оценка снижена за порочную методологию”.
Вероятно, одна вторая раздражения предназначалась себе самим и друг другу. За недосмотр. За головотяпство и халатность. Телега из милиции была? Была. История с комсомолом имела место? Имела. Хвосты и пересдачи тянулись за ним с курса на курс? Еще как. Неужели за семь-то лет трудно было избавиться от этого гуся лапчатого? А теперь что? Ставить ему “два” прямо на защите? А это уже ЧП. Да и “тройка” за дипломную работу – на свое дерьмо с топором, как говорится.
Но, может быть, я демонизирую этих людей и они злились действительно на себя, но по другой причине. Прогульщик-то оказался неглупым, трудоспособным малым, а мы не сумели найти к нему подход – обучить верной методологии… Ведь во время изгнания меня из комсомола после положенных речевок (“За этот билет! на Даманском! наши ребята!” и т. п.) прозвучала фраза, от которой я немножко охуел. Как бы снимая с меня часть ответственности за случившееся, кто-то из-за стола под зеленым сукном сказал: “Вообще на филфаке комсомольская работа поставлена из рук вон плохо”. Эти белоглазые ребята что, и вправду думали, будто увеличение количества и качества политзанятий, слетов и юморин перевесили бы детство, отрочество, юность, маму-папу, Достоевского и Сопровского? За кого они нас держат?! Кто же нами правит?! Всякий раз после считаных моих встреч с работниками зловещего ведомства я испытывал чувство стыда за собственный трепет и какого-то разочарования: ждал иезуита, а наткнулся на дурака.
Лучше надо было читать Федора Михайловича. Иван Карамазов был оскорблен в гордости и эстетических чувствах – какой пошлый ему достался черт!
А тем временем мы с Сопровским пришли ко мне домой к накрытому столу, а там уже были в сборе родня и друзья семьи, и все меня тискали и мяли, и ближе к вечеру перебравший на радостях отец перебивал и перебивал галдеж застолья горделивым восклицанием: “За порочную методологию!” А мама светилась.
* * *
Как-то по касательной я поработал гидом в московском музее “Коломенское”. Запомнилась идиотка, написавшая на меня донос, что я читаю и распространяю порнографическую книгу “Лолита”. Дело замяла директор музея – Юлия Серафимовна Черняховская. Там же я сдружился с искусствоведом Галей К, очень добрым, тонким человеком и талантливой художницей. Она написала удачный портрет Сопровского: точно схвачена Сашина гримаса – смесь ума и шкодливости. Она пила по-мужски и нехорошо – оставляя себе на утро. Ее уже нет в живых.
Вообще, на моей памяти, пили – и серьезно – все: обшарпанная богема, рабочие сцены, экспедиционные рабочие, научные сотрудники музеев, столичных и провинциальных… С кем бы я ни знался, помню черное пьянство, при своем, само собой, участии. Сейчас, когда я застаю наутро после сборищ моих взрослых детей бутылки с недопитыми водкой и вином, я искренне недоумеваю. Все спиртосодержащие жидкости, включая одеколоны, истреблялись подчистую. Нам с Сопровским чудился какой-то апокалиптический пафос в этом повальном алкоголизме “от Москвы до самых до окраин”, и роль забулдыг пришлась нам по вкусу. Нам нравилось, какие мы отпетые: скверно одеты, неухожены, умеем часами изъясняться исключительно матерными меж дометиями и прибаутками, способны пить что попало и где попало под мануфактуру. Позже выяснилось, что мы своим умом дошли до эстетики панков. Как-то мы с Сашей брели по улице: ноябрь, слякоть, многодневное похмелье, ни копейки денег. У служебного входа в продуктовый магазин нас окликнули, поманили и без вступлений и “пожалуйста” показали, какие ящики надо сгрузить с машины, куда занести и где составить. За труды дали по трояку, что ли. Мы вышли, переглянулись и польщенно рассмеялись. Когда я совсем одурел от этой эстетики, мне дали адрес литовского хутора Лишкява, двадцать минут автобусом от Друскининкая. Шел декабрь.
Хозяйка, старуха Антося Вечкене, в несезон привечала всяких неприкаянных художников от слова “худо”. Они и передавали ее по цепи – наблюдался симбиоз. Была она по-крестьянски неглупой, нежадной, любила выпить по маленькой и поговорить с акцентом. Она звала меня паном Гандлевским. Я натирал ей больную жирную спину каким-то снадобьем, мы в четыре руки ставили клизму “поросенке” (оказавшемуся здоровенной свиньей) – жили душа в душу. Из вечерних ее россказней я узнал, что муж-покойник благодаря субтильному сложению всю войну проходил в женском платье, чем спасся от мобилизации (а в какую армию – советскую или немецкую – я забыл), но пострадал за связь с “лесными братьями”. Нагрянувший на выходные сын Йонас был уже совершенно понятный советский балбес: нажравшись и желая показаться цивилизованным современником, а не литовской деревенщиной, орал “Че-е-ер-вонец в руку и шукай вечерами…” – портил мне изгнанническое настроение. Как-то я уехал в Вильнюс к приятелям на два дня, а вернулся через пять, помятый, и хватился паспорта. Антося вынесла мне его из подпола в жестянке из-под леденцов – рефлекторно прикопала сразу по моем исчезновении. Я подивился партизанским навыкам добродушной хозяйки.
Там и сям по хутору слонялись неразговорчивые деды. Звали их всех Саулюсами. Изредка мы с ними угощались за сельпо ромом “Habana-Club”, деды делались разговорчивей, а когда я хвалил их русский, хмыкали: “В Сибири хорошо учат”. Я делал понимающие глаза и вздыхал.
Хутор стоял на высоком берегу Немана. Зима была бесснежной, и я впервые узнал, что ледоход не только весеннее, но и осеннее явление природы. От нескончаемого шествия разнокалиберных льдин трудно было оторвать взгляд. Большой костел XVIII столетия белел на отшибе, усугубляя приятное чувство чужбины. Короткими зимними днями я шлялся и рифмовал, а в темное время суток читал или болтал с Антосей за кальвадосом, отвратительным пойлом, которое я покупал исключительно за мужественную красоту названия. Раз я брел сосняком и споткнулся о камень, торчащий из схваченного морозом мха. Заметил, что похожих камней густо понатыкано вокруг. Присел около одного и узнал буквы еврейского алфавита. Кладбище. Вечером Антося сказала, что до войны хутор был смешанным – литовско-еврейским. “И всех немцы?” – спросил я. “Зачем немцы? – ответила она. – Свои. С которыми пан выпивает”. У меня целая коллекция таких идиллий с похабным секретом внутри.
По возвращении из Литвы я уволился из “Коломенского”, филонил до апреля, а в апреле устроился экспедиционным рабочим в Памирский гляциологический отряд при Академии наук и до осени работал на леднике Медвежий в верховьях Ванча.
* * *
От тех лет осталось еще одно чудесное воспоминание. Бахыт Кенжеев, Алексей Магарик – виолончелист, мачо и преподаватель иврита – ну и я надумали обогатиться и поехали в октябре в Карелию – собирать бруснику на продажу. Запаслись на почте картонными коробками для посылок, чтобы доставить в Москву ягоды в целости и сохранности, и поехали. Сошли за Медвежьегорском на станции Сег-озеро – я бывал там уже. Местный мужик за небольшую плату на моторке с плоскодонкой на прицепе свез на один из островов, весельную лодку оставил нам и распрощался на неделю. Я опасался подвоха от Кенжеева, которого считал совершенно городским и не приспособленным к дикой жизни человеком. Но обманулся: Бахыт ловко стряпал, собирал ягоды куда лучше меня и вообще пришелся кстати. Подвел главный ковбой – Магарик, слегший на второй день островной жизни с ангиной и высокой температурой. Так он и провалялся всю неделю в щелястой охотничьей избенке на нарах у железной печки. Правда, когда накануне отъезда в сумерках мы с Бахытом подплывали к острову, увидели на берегу нашего заливчика Магарика. Он стоял почти в беспамятстве рядом с полным ведром брусники.