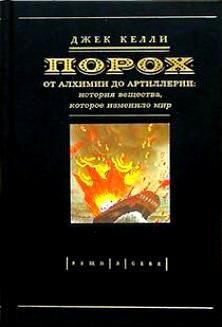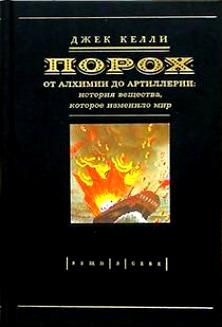"Ковентри, Герника, Орадур..."
Ковентри,
Герника,
Орадур.
Это ветер памяти подул…
Кто забыл
про эти города,
пусть не удивляется,
когда
небо полыхнет над головой,
вскрикнет и обуглится земля,
будут слезы — зря,
и стоны — зря,—
мертвым
позавидует
живой!
«Да за что?!
Да я-то тут при чем?!.»
…Потерявший память —
обречен.
Он во дворе,
машинами пропахшем,
пасет внучат, пока не надоест.
Ему кричат таксисты:
«Эй, папаша! Скажи, будь другом,
где шестой подъезд?..»
Он о футболе
говорит со мною.
Он кажется худее
со спины…
…За этою невзрачною
спиною —
две
революции
и три
войны.
Вот уже вступила техника на площадь.
И уже
словно ток прошел по стайке
иностранных атташе,—
нынче
фоторепортерами
работают они!..
А по площади,
по площади
течет река
брони!
Твердь земная
прогибается,
и стекла дребезжат.
Сверхсерьезные ракеты
на прицепах
возлежат!..
Наша общая забота.
Строгость оборонных дел.
Хоть никто из нас на этом
деле
не разбогател.
Не купил лесов и замков.
Миллионов не припас…
Но когда б
такого. не было,
то не было бы
нас!
Мы бы не были
Державой.
Мы бы
канули в ночи…
Сердце,
что ж ты так забилось?
Погоди,
не грохочи!
Что я вспомнил?
Что подумал?
За тобой
куда иду?..
Нам бы
четверть этой силищи
в том
взорванном году!
Никогда не повторится сорок первый.
Никогда!..
Вот течет она по площади —
защита и беда…
А из будущего века,
из сплошного далека
смотрят дети,
смотрят дети,
не рожденные пока.
Смотрят с грустною надеждой
сквозь неведомую тьму…
Может быть, они
родиться
смогут
только потому,
что когда-то,
в наше время,
в грозах
нынешнего дня
грохотала по брусчатке
эта
жесткая броня!
На Землю
пришла усталость,
нельзя ее избежать!..
Матери
шара земного
устали
солдат рожать!
Устали
гадать на картах,
в напрасной надежде
жить…
Устали
швейные фабрики
военную форму
шить!
Устал
самолет реактивный
лететь
навстречу войне!
Лесная дорога
устала
танки
тащить на спине!..
Усталость
сковала планету.
Настала
такая пора…
Устал океан
Раскачивать
ракетные крейсера!
Ему
ощущать надоело
железный привкус
беды
и прятать
подводные лодки
в бездонных толщах
воды!..
От грома
устало небо.
Устала земля,
Когда
на ней —
сплошные мишени,
мишени,
а не города!
И даже металл
бездушный,
холодный,
тупой металл
за долгие тысячелетья
оружием быть
устал!
Тяжелые капли
на глину упали,
В трубе водосточной
забила струя.
Вдоль узенькой улочки
высятся пальмы
гигантскими кисточками для бритья…
Наверно,
земля эта слишком устала —
ей тысячелетьями
мышцы свело.
Наверное,
время ее не настало.
А может, настало уже.
И прошло…
Такое единство
беды и покоя,
такое презрение
к бегу часов,
что надо придумывать
нечто другое
в таблице
затасканных мер и весов.
Иначе?
Иначе все будет нечестно.
Смешались недели,
века
и года!
Здесь то, что прошло,
никуда не исчезло.
Здесь то, что придет,
не уйдет никуда…
А мимо плывут —
тяжело и огромно,—
как будто возникнув из общего сна,
то слон,
монотонно
толкающий
бревна,
то трайлер
размером в четыре слона…
Я все это чувствую, слышу и вижу.
Над миром
прибой океанский гудит.
Немыми глазищами
каменный Вишну
за взлетом ракеты
спокойно следит.
А звезды
мерцают пустынно и просто.
Летят,
оставляя невидимый след…
И мне улыбается
странный
подросток.
Подросток
которому тысячи лет.
Сильно древний
монастырь,
или церковь,
или замок —
это как магнит
для самых
непоседливых настыр…
Отметают возраженья,
с ходу
пресекают спор:
«Как?!
Серьезно?!
Неужели
не бывали
до сих пор?!..
Это дело поправимо!..»
Встали
около шести.
Речка — мимо,
роща — мимо,
море — мимо.
Мы —
в пути!..
Заунывный рев мотора.
Сумасшедший звон жары.
Задыхаясь —
в гору,
в гору
и — зажмурившись —
с горы!
Полдень
липкий, как конфета.
В сердце — боль,
в глазах — темно…
Сто восьмое
чудо
света —
наконец-то! —
вот оно!..
Камни
желтые от пыли,
в землю
вросшие на треть…
«В общем,
можно не смотреть,..
Главное,
что мы здесь
были!..»
"Гостиница на Рю-де-Сенн..."
Гостиница на Рю-де-Сенн
была проста,
была удобна.
Мы жили здесь
почти как дома.
Как дома.
Только не совсем.
Отличье
состояло в том,—
(помимо остальных деталей),—
что этот
добродушный дом
располагался
в том квартале,
где каждый вечер
допоздна,
помехи
в сновиденьях
сея,
шло
непрерывное веселье —
безудержное,
как война!..
Сюда —
еще до темноты —
в объятья
переулков мглистых
величественные, как киты,
автобусы
везли туристов.
Здесь
был кураж и климат свой.
Напротив знаменитой церкви
перед кафе
на мостовой
шли
самозваные концерты!
Здесь выступал надменный мим,
одетый
грустно и немодно.
Изничтожал он бренный мир
открыто,
смело,
но безмолвно!..
Здесь,
как всегда навеселе,
грек
демонстрировал удава,
и ненакрашенная дама
играла
на простой пиле…
Здесь был факир — такой, как надо!
Усмешкой дьявольской
сочась,
кричал он:
«Господа!..
Сейчас
вас опалит
дыханье ада!..»
Отпрыгивала темнота!
Огонь
торжествовал шикарно.
И пламя
било
изо рта,
как из домашнего вулкана!
Факир стонал
в избытке чувств,
мерцал глазами с поволокой.
И от него
несло чуть-чуть
не адом,
а бензоколонкой…
А рядом,
около,
вокруг —
и без конца,
и без начала —
все двигалось!
текло!
звучало!
Все перемешивалось вдруг!..
И странною была земля,
где улицы —
теснее комнат…
Сверкал Париж —
веселый город!
Париж,
который «о-ля-ля!..».
Он пил и пел,
он жрал и ржал,
был
надрывающимся, ярким!
Он был
Парижем по заявкам.
Парижем —
не для парижан.
Он жил,
как будто все пропало!..
И месяц над рекой висел.
И лишь под утро
засыпала
гостиница на Рю-де-Сенн