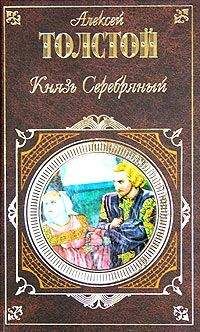Лето 1856–1858
* * *
Как здесь хорошо и приятно,
Как запах дерев я люблю!
Орешника лист ароматный
Тебе я в тени настелю.
Я там, у подножья аула,
Тебе шелковицы нарву,
А лошадь и бурого мула
Мы пустим в густую траву.
Ты здесь у фонтана приляжешь,
Пока не минуется зной,
Ты мне улыбнешься и скажешь,
Что ты не устала со мной.
Лето 1856
* * *
Растянулся на просторе
И на сонных берегах,
Окунувши морду в море,
Косо смотрит Аюдаг [1].
Обогнуть его мне надо,
Но холмов волнистый рой,
Как разбросанное стадо,
Все толпится предо мной.
Добрый конь мой, долго шел ты,
Терпеливо ношу нес;
Видишь там лилово-желтый,
Солнцем тронутый утес?
Добрый конь мой, ободрися,
Ускори ленивый бег,
Там под сенью кипариса
Ждет нас ужин и ночлег!
Вот уж час, как в ожиданье
Конь удваивает шаг,
Но на прежнем расстоянье Косо смотрит Аюдаг.
Тучи море затянули,
Звезды блещут в небесах,
Но не знаю, обогну ли
Я до утра Аюдаг?
Лето 1856
* * *
Войдем сюда; здесь меж руин
Живет знакомый мне раввин;
Во дни прошедшие, бывало,
Видал я часто старика;
Для поздних лет он бодр немало,
И перелистывать рука
Старинных хартий не устала.
Когда вдали ревут валы
И дикий кот, мяуча, бродит,
Талмуда враг и Каббалы,
Всю ночь в молитве он проводит;
Душистей нет его вина,
Его улыбка добродушна,
И, слышал я, его жена
Тиха, прекрасна и послушна;
Но недоверчив и ревнив
Седой раввин…
Он примет странников радушно,
Но не покажет им супруг
Своей чудесной половины
Ни за янтарь, ни за жемчуг,
Ни за звенящие цехины!
Лето 1856
* * *
Если б я был богом океана,
Я б к ногам твоим принес, о друг,
Все богатства царственного сана,
Все мои кораллы и жемчуг!
Из морского сделал бы тюльпана
Я ладью тебе, моя краса;
Мачты были б розами убраны,
Из чудесной ткани паруса!
Если б я был богом океана,
Я б любил тебя, моя душа;
Я б любил без бури, без обмана,
Я б носил тебя, едва дыша!
Но беда тому, кто захотел бы
Разлучить меня с тобою, друг!
Всклокотал бы я и закипел бы!
Все валы свои погнал бы вдруг!
В реве бури, в свисте урагана
Враг узнал бы бога океана!
Всюду, всюду б я его сыскал!
Со степей сорвал бы я курганы!
Доплеснул волной до синих скал,
Чтоб добыть тебя, моя циана,
Если б я был богом океана!
Лето 1856
* * *
Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит;
Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд,
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.
А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча;
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;
Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так; не знаю, право,
Наяву я иль во сне?
Вот уж лошади готовы —
Сел в кибитку и скачу, —
Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу,
Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит…
Лето 1856
* * *
Не верь мне, друг, когда, в избытке горя,
Я говорю, что разлюбил тебя,
В отлива час не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.
Уж я тоскую, прежней страсти полный,
Мою свободу вновь тебе отдам,
И уж бегут с обратным шумом волны
Издалека к любимым берегам!
Лето 1856
* * *
Острою секирой ранена береза,
По коре сребристой покатились слезы;
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй!
Рана не смертельна, вылечится к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана…
Лишь больное сердце не залечит раны!
Лето 1856
* * *
Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой
Вечерний алый свет сливается все боле;
Блеящие стада вернулися домой,
И улеглася пыль на опустелом поле.
Да снидет ангел сна, прекрасен и крылат,
И да перенесет тебя он в жизнь иную!
Издавна был он мне в печали друг и брат,
Усни, мое дитя, к нему я не ревную!
На раны сердца он забвение прольет,
Пытливую тоску от разума отымет
И с горестной души на ней лежащий гнет
До нового утра незримо приподымет.
Томимая весь день душевною борьбой,
От взоров и речей враждебных ты устала,
Усни, мое дитя, меж ними и тобой
Он благостной рукой опустит покрывало!
Август 1856
* * *
Да, братцы, это так, я не под пару вам,
То я весь в солнце, то в тумане,
Веселость у меня с печалью пополам,
Как золото на черной ткани.
Вам весело, друзья, пируйте ж в добрый час,
Не враг я песням и потехам,
Но дайте погрустить, и, может быть, я вас.
Еще опережу неудержимым смехом!
Август 1856
* * *
Когда кругом безмолвен лес дремучий
И вечер тих;
Когда невольно просится певучий
Из сердца стих;
Когда упрек мне шепчет шелест нивы
Иль шум дерев;
Когда кипит во мне нетерпеливо
Правдивый гнев;
Когда вся жизнь моя покрыта тьмою
Тяжелых туч;
Когда вдали мелькнет передо мною
Надежды луч;
Средь суеты мирского развлеченья,
Среди забот,
Моя душа в надежде и в сомненье
Тебя зовет;
И трудно мне умом понять разлуку,
Ты так близка,
И хочет сжать твою родную руку
Моя рука!
Август или сентябрь 1856
* * *
Сердце, сильней разгораясь от году до году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду.
В ней, как железо в раскале, оно закипело:
Сделала, жизнь, ты со мною недоброе дело!
Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодною сталью!
Август или сентябрь 1856
* * *
В стране лучей, незримой нашим взорам,
Вокруг миров вращаются миры;
Там сонмы душ возносят стройным хором
Своих молитв немолчные дары;
Блаженством там сияющие лики
Отвращены от мира суеты,
Не слышны им земной печали клики,
Не видны им земные нищеты;
Все, что они желали и любили,
Все, что к земле привязывало их,
Все на земле осталось горстью пыли,
А в небе нет ни близких, ни родных.
Но ты, о друг, лишь только звуки рая
Как дальний зов в твою проникнут грудь,
Ты обо мне подумай, умирая,
И хоть на миг блаженство позабудь!
Прощальный взор бросая нашей жизни,
Душою, друг, вглядись в мои черты,
Чтобы узнать в заоблачной отчизне
Кого звала, кого любила ты,
Чтобы не мог моей молящей речи
Небесный хор навеки заглушить,
Чтобы тебе, до нашей новой встречи,
В стране лучей и помнить и грустить!
Август или сентябрь 1856
* * *
Лишь только один я останусь с собою,
Меня голоса призывают толпою.
Которому ж голосу отповедь дам?
В сомнении рвется душа пополам.
Советов, угроз, обещаний так много,
Но где же прямая, святая дорога?
С мучительной думой стою на пути —
Не знаю, направо ль, налево ль идти?
Махни уж рукой да иди, не робея,
На голос, который всех манит сильнее,
Который немолчно, вблизи, вдалеке,
С тобой говорит на родном языке!
Август или сентябрь 1856
* * *
«…» Алексей Толстой верил в предсуществование искусства. Мир предстоял ему как художественное произведение, которое чуткие поэты и музыканты выявляют, подобно тому как «над пламенем грамоты тайной бесцветные строки вдруг выступают». Мир талантлив. Он звучит музыкой, переливается красками, в нем реют слова, и это он нашептывает темы для земных творцов. Когда Бетховен слагал свой марш похоронный, он не из себя брал «этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса», -
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света.
Если так, то в искусстве – истина, и красота не украшение, а сама сущность бытия, его имманентная природа; если так, икона, образ – это благодатная необходимость, которой всякий раз и поклоняется «наш мир удивленный». Толстой больше всего привлекателен той способностью удивления перед мировой и человеческой иконой, в особенности если она – старинная, издавна чтимая, если она напоминает изысканные, выцветшие тона гобелена, как прекрасные терцины его «Дракона».