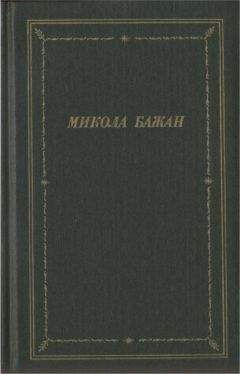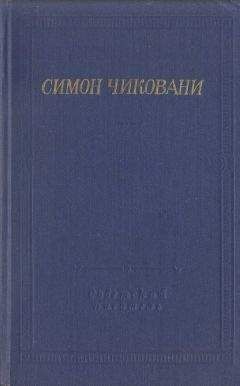Переводы были для М. Бажана в полном смысле слова актами дружбы и братства, одним из путей вхождения в духовный мир других народов. Он любил эти «вхождения»… Грузинскую, скажем, литературу и искусство, современность и прошлое этого народа он знал и понимал так глубоко, популяризировал их с такой любовью и неутомимостью, что друзья полушутя-полусерьезно называли его крупнейшим из литераторов-«грузин», не принадлежащих к данной национальности.
Необъятное море русской литературы было для М. Бажана близким и родным с детства, а из других славянских литератур его особенно привлекала к себе польская, здесь он имел и близких друзей, как, скажем, Ярослава Ивашкевича. В последние годы своей жизни он увлекся немецкой классикой, много переводил, в частности, кроме Рильке — «стариков» Гёте и Гельдерлина. Штрих мелкий, но по-человечески выразительный: незадолго до кончины, измученный недугами, он как-то сказал автору этих строк: «Вот переводил „Римские элегии“ — и, знаете, даже помолодел».
За всем этим у него стояло чувство органической включенности в многонациональную литературу страны, в мировой литературный и общекультурный процесс. Ведь и в качестве эссеиста, исследователя, публициста М. Бажан писал о И. Франко и Лесе Украинке, Довженко и Яновском, Пушкине и Толстом, Маяковском и Антокольском, Руставели и Чаренце, Райнисе и Шолом-Алейхеме, Петрарке и Кохановском. Приходилось ему выступать на международных встречах и симпозиумах, читать научные доклады — наподобие, скажем, такого: «Рисорджименто и литература» — иначе говоря, об откликах на Рисорджименто в русской, украинской, польской и других литературах — в том числе и в самой итальянской (доклад был прочитан в 1961 году в Турине, на II конгрессе Европейского сообщества писателей). В московских и киевских журналах изредка появлялись его статьи о новых книгах современников — писателей Запада — Ж.-П. Сартра, Г. Пьовене, Г. Бёлля — в этом также проявлялся его неизменный интерес ко всему значительному, пусть даже спорному, но интересному и живому, что появлялось не только в отечественной, но и зарубежной литературе.
2
Первым увидевшим свет стихотворением поэта был выдержанный в ударном, «маяковском» духе «Руро-марш», напечатанный 17 мая 1923 года киевской газетой «Більшовик». Писать он, конечно, начал значительно раньше и сам впоследствии вспоминал об импульсах, усиливавших его творческий пыл: первым из них были занятия в студии у всесторонне талантливого Леся Курбаса, вторым — тот небывало молодой, весенний, революционный дух, которым покоряла его поэзия первых на Украине певцов Октября — П. Тычины, В. Эллана-Блакитного, В. Чумака («И учат неслыханным песням нас Тычина, Блакитный, Чумак», — писал он в поэме «Дебора»).
Уже после смерти поэта стала известной небольшая тетрадь его юношеских стихов «Контрасты настроения» с посвящением: «Моей маме». Стихи лирические, мечтательные, во многом подражательные по отношению к ближайшим по времени образцам (О. Олесь, М. Вороной), действительно не лишенные эмоциональных контрастов, — довольно типичный пролог к «истории молодого человека» в украинской поэзии на рубеже исторических эпох.
Потом, в Киеве, начинающий поэт на некоторое время попадает под опеку Михайля Семенко, лидера украинских революционных футуристов, заведовавшего отделом в уже упомянутой газете «Більшовик» и вскоре привлекшего к редакционной работе и недавнего киевского студента. Правоверным футуристом в своей поэзии он, правда, так и не стал (два-три экспериментальных стишка — явно не в счет). Но воздействие поэтики мастеров «левых школ» — Маяковского, того же Семенко и, далеко не в последнюю очередь, некоторых установок поэзии экспрессионизма — будет достаточно ощутимо в его стихах ближайших лет. Раннему М. Бажану импонировало, например, выражение психических состояний через резкую, подчас грубую и как бы технизированную предметность, склонность к сниженной, порой сознательно антиэстетичной, «жестокой» образности («В тело горячее круто врезался блещущий нож», «упруго набряк под балкою черною лампы чиряк»),[5] спазматическая напряженность неровного, словесно плотного стиха, общая установка на изобразительную экспрессию плюс, так сказать, четкие агитационные выводы и призывы. Все это можно видеть в ранних газетных стихах («Красноармейская», «Про жито и кровь», «Имобе из Галама»). Отдельно следует сказать о лучшем из них — очень искреннем, сохраняющем и сегодня свой эмоциональный заряд стихотворении на смерть В. И. Ленина — «21 января».
Первые книги М. Бажана — «17-й патруль» (1926) и «Резная тень» (1927) — в начале 30-х годов были отнесены автором к своей творческой предыстории. Оценка самокритичная, но вряд ли справедливая. В первом сборнике было несколько сильных, индивидуально своеобразных стихотворений, в том числе удивительная по свежести образного выражения и подлинной экспрессии чувства «Песня бойца», а главное, здесь уже с достаточной очевидностью «начался» Бажан как поэт революционно-романтического мироощущения, певец мужественных, цельных людей, способных на высокий подвиг во имя правого дела. Впрочем, усиленный акцент на беспощадности императивов, вынуждавших героев к самопожертвованию, придавал не только суровый, но и жестокий, фатальный колорит некоторым произведениям, касавшимся этой темы (баллада «Противогаз», стихотворение «Боец 17-го патруля»). Это был, так сказать, экспрессионистски интонированный романтизм героической жертвенности. А вот в «Песне бойца» героические мотивы согреты скрытым теплом подлинной, чистой человечности:
И мы все сгорели в огне б
За черный уголь, за черный хлеб.
За черные руки рабочих
Мы дважды сгорели в огне б!
Несколько позже с большой силой прозвучат его стихи о трагизме поражения и веры в конечную победу, стихи, полные сурового оптимизма, — «Слово о полку» (1929).
Творческую эволюцию художника особенно интересно прослеживать в периоды, когда она бывает необычно стремительной и неожиданной в своих поворотах. Так было и у Бажана, по крайней мере в ближайшее десятилетие после. выхода первой книги.
Сборник «Резная тень» критика 20-х годов считала неким отступлением поэта от, казалось бы, уже прочно освоенных рубежей «наступательной» романтики. Действительно, в некоторых его стихах прозвучали — впрочем, весьма сдержанные — мотивы минора, усталости, душевного разлада, вроде бы вторящие известным в то время напевам антинэповской музы. (На Украине в эти годы критика вела массированный огонь по «упадочной» поэзии, масштабы которой непомерно преувеличивались.) Но если в поэзии тогдашнего Бажана и не обошлось без двух-трех «кризисных», противоречивых по настрою стихов, то это был кризис чересчур общего в своих построениях, отвлеченного романтизма ранних лет. На смену ему приходило более глубокое понимание новой действительности с ее неизбежными противоречиями, но также и с ее позитивными силами, не позволяющими утратить перспективу:
На знамени твоем, на знамени Коммуны
Нет слов неверья, слов бессилья нет!
(«Осенний путь»)
Естественно, ищутся новые поэтические ракурсы — и не в одном направлении. В «Резной тени» М. Бажан уже четко проявляет себя в качестве урбаниста, поэта современного города с его довольно сложными, порой пасмурными, психологическими пейзажами («Элегия аттракционов», «Фокстрот», «Ночной момент», «Неясный звук»). Здесь же — и первые в его творческой биографии обращения к истории, к национальному прошлому, воспринятому несколько стилизованно, через призму древнеславянской мифологии («Папоротник»), фольклора и романтической литературы, повествующих о временах татарщины, позже — казачества («Кровь полонянок», «Разрыв-трава»), а в стихотворении «Ночь Железняка» — и через призму истории социальной. Крепкая словесная живопись, четкие контуры изображаемых предметов, жизненная полнота в соединении со строгой сонетной формой дали критикам повод говорить о своеобразной, пусть и кратковременной полосе бажановского «эредианства». (При этом следует учесть замечание современного исследователя о том, что известные «парнасские» воздействия молодой украинский мастер воспринял, скорее всего, от Э. Верхарна, своего любимого поэта еще с уманских времен.) Здесь Бажан в известном смысле находил себя как поэта-словолюба, ценителя и неутомимого гранильщика емкого, пластического, предметно ощутимого, подчас редкостного слова, найденного в неисчерпаемых кладовых родного языка.
Столь важный для каждого молодого художника вопрос о творческом самоопределении теперь особенно волнует поэта. В некоторых критических выступлениях 1927 года — коллективной статье М. Семенко, М. Бажана, Г. Шкурупия «Встреча на перекрестке», где каждому автору даны отдельные «партии», в собственных полемических заметках «Наденьте очки» — он пытается определить свой дальнейший путь, свободный от диктата групп и установившихся течений. Он уже отходит, если не отошел, от футуризма — и потому, что научился ценить «хороший стих», и потому, что, вопреки нигилизму «панфутуристов», ищет свою национальную «культурную базу».[6]