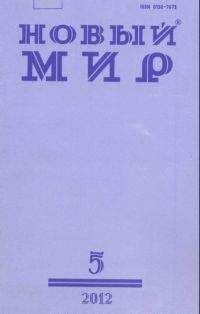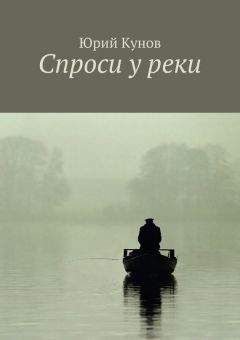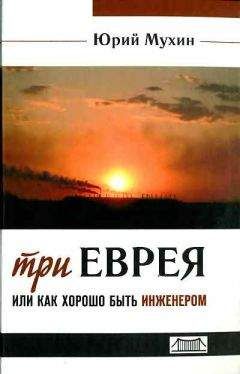Евса Ирина. Створка твоего окна
Пишет Весам Водолей: «Приезжай сюда.
Пусть не развеселю, но скучать не дам.
Хочешь, мы, невзирая на холода,
в Дрезден с тобой смотаемся и в Потсдам?»
Пишут Весы Водолею: «Давай махнём
в Крым! Там в ночи — плюс девять, семнадцать — днем.
И у моих приятелей во дворе
розы цветут, ты вдумайся, в декабре».
Пишет Весам Водолей: «Не могу. Прости.
Я здесь не на плаву, а на самом дне.
Всех сбережений хватит на треть пути.
Как ни крути, а лучше уж ты — ко мне».
Пишут Весы Водолею: «Просрочен мой
паспорт, а с новым столько теперь возни!
И вообще: тащиться в Берлин зимой…
Видимо, не получится. Извини».
Пишет Весам Водолей: «Я пятнадцать лет
не был в отчизне-мачехе. Ты поверь,
если б не пресловутый в шкафу скелет,
я бы давно в твою постучался дверь».
Пишут Весы Водолею: «А в той, другой,
что, как родная мать, прикормила вас,
быстро ль привык не вздрагивать, дорогой,
от ежедневных „шнеллер“ и „аусвайс“?»
Пишет Весам Водолей: «Как я мог забыть?
Вы ведь чуть что — под дых». —
«Поясню грубей, —
пишут Весы Водолею, — на всё забить
смог ты когда-то? Вот и сейчас забей».
«Но еще ты спал под лепет ависаги…»
Но еще ты спал под лепет ависаги,
даже не закрыв
хлипкого окна в нетопленой общаге
с видом на залив.
Спал, пока за мной осенней масти колли
топала туда,
где с пяти утра стояли на приколе
пришлые суда;
где не молодой, но всё-таки повеса
юной визави
тщился втолковать за чашечкой эспрессо
тонкости любви
и, без чаевых очухавшись, в неслабых
выраженьях крыл
жизнь свою и всех, кто к ней причастен, лабух,
прошерстивший Крым.
Истончаясь и дробясь, покуда спал ты
под рассветный бриз,
низкий полз туман вдоль набережной Ялты,
изымая из
бытия — лотки, помпезные фронтоны
и — невдалеке —
пирс, над коим птиц бесшумные фантомы,
заходя в пике,
падали туда, где на ребристом глянце
жидкого свинца
багровел буёк, подрагивая в танце
головой пловца…
Выразив протест витрине магазина,
продолжавшей спать,
тощая, ко мне прибившаяся псина
потрусила вспять —
не к пустым ларькам, но в сторону пригорка,
где, болтаясь на
треснувшей петле, поскрипывала створка
твоего окна.
«Блеском металлических коронок…»
Трудно жить на свете
октябрёнку Пете:
бьет его по роже
пионер Серёжа.
Блеском металлических коронок
встречных ослепляя наугад,
Петя, постаревший октябрёнок,
топает с баклажками в ботсад.
Непонятный сбой в семейной саге,
ласковый, ручной полудебил,
за сирень, цветущую в овраге,
он прогулки эти полюбил.
Наблюдает Петя, как в бювете
убывает чистая вода.
Он уже усвоил, что на свете
есть плохое слово никогда.
Есть больница в трёх шагах от дома,
у подъезда — чёрный пёс Пират.
Мама есть, вахтёрша тётя Тома,
а ещё Серёжа — старший брат.
И когда, условившись о встрече,
брат приходит изредка в семью,
Петя робко втягивает в плечи
голову болезную свою.
То ли взбучки ждет он по привычке,
то ль конфет, обещанных ему,
заплетая в куцые косички
скатерти парадной бахрому.
На родню косит он виновато,
потому что вновь не угодил,
под софу загнав фуражку брата,
чтоб подольше тот не уходил.
Пирожков любимых, с потрохами,
не беря с тарелки, хоть умри,
он сидит в рубахе с петухами
грозового облака внутри.
Миг затишья Петю не обманет, —
он затылком чует, что вот-вот
налетит, сверкнёт, бабахнет, грянет!..
Но до свадьбы точно заживёт.
«Погиб, — сказали. — В пьяной драке не уберёгся от ножа…»
«Погиб, — сказали. — В пьяной драке не уберёгся от ножа.
Его нашли у гаража, ну, там, где мусорные баки».
Два бака. Я их помню. Да. Ещё — беседку в брызгах света,
где мы играли в города, а повзрослев, совсем не в это.
Кусты, скрывающие лаз в заборе. Запахи столовки.
За тридцать лет хотя бы раз могла сойти на остановке.
Так нет же. Пальцем по стеклу водила, злясь на жизнь иную,
где старый хлебный на углу перелицован был в пивную.
Но если б знать, что ты уже — от встреч случайных независим —
в тот край, куда не пишут писем, успел отбыть на ПМЖ,
чтоб, как тогда, — из темноты, многоочитой и хрипатой, —
кричать мне с первого на пятый: «Я не люблю тебя! А ты?»
«И седую Машу в грязном платочке в клетку…»
И седую Машу в грязном платочке в клетку,
и её срамную дочку-алкоголичку,
и жадюгу Пашу, склочную их соседку,
подбери, Господь, в свою золотую бричку.
Видишь, как плетутся, глядя себе под ноги,
за кусты цепляясь и тормозя позорно
на крутых подъёмах? Куры так на дороге
загребают пыль, надеясь нашарить зерна.
Тут одно словцо — и дурость пойдёт на дурость,
и степное эхо бодро подхватит: «Бей их!»
…Отстаёт одна. Другая, как мышь, надулась.
У неё сушняк. А третья костит обеих:
«Не сыскать у вас и корки сухой на полке!
Полведра картошки не накопать за лето!
Вечно двери настежь. Каждый кобель в посёлке
знает, чем за водку платит давалка эта!»
Посади их, Боже, в бричку свою, в повозку.
Брось попонку в ноги, ибо одеты плохо.
И, стерев заката яростную полоску,
засвети над ними звёзды чертополоха.
Подмигни им вслед пруда маслянистой ряской,
прошурши сухими листьями наперстянки.
Склей дремотой веки и убаюкай тряской,
чтоб друг с другом слиплись, как леденцы в жестянке.
И приснятся им за главной Твоей развилкой,
за холмом, горящим, словно живой апокриф:
тёте Маше — внук, Маринке — моряк с бутылкой,
а сквалыге Паше — полный солений погреб
да ещё пампушки и сковородка с карпом.
…Кто-то всхлипнет жалко, кто-то заплачет тонко.
А куда везут их с этим бесценным скарбом —
ни одна не спросит, — не отобрали б только.
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Отбрив жену, сосед нырнул в кусты
с бутылкою «Метаксы».
За флигелем драчливые коты
бранятся по-китайски.
Бесшумный нетопырь — то вниз, то вверх.
Жужжит ночная трасса.
У школы запускают фейерверк
два местных лоботряса.
Курортники сражаются в деберц;
сквозь праздничные залпы
доносится: минелла, белла, терц.
«Цыганщина!» — cказал бы
один поэт. Не зря же из райка,
грозящего попойкой,
ты вырван, как страница дневника
с большой и жирной двойкой.
Но размышляешь, прячась меж ветвей
живучей ежевики,
что было бы верней зайти с червей
тому, кто ходит с пики;
что ты ловил удачу, как юнец,
рванувший в самоволку,
а мир ловил тебя и наконец
зубами взял за холку.
И вот висишь над грудой кирпича,
над пыльным базиликом,
ножонками беспомощно суча,
давясь беззвучным криком.
Но были там они, ведя игру
Миров…
В. Набоков
Стол со скамьёй во дворе
и дыханье подвальных глубин
затхлое в том сентябре,
что к тебе нас бездумно прибил.
С пятого (бьюсь об заклад)
этажа увертюра Массне
льётся, впадая в закат,
беспородный, как «Бiле мiцне».
…Так хорошо мы сидим,
вчетвером, как ни разу потом.
Банка дешёвых сардин
и нарезанный крупно батон.
Блещет щербатость двора
озерцами бензиновых луж.
«Жизнь, — говоришь ты, — игра
в дурака, и на вылет к тому ж.
Кстати, а как про игру
у Набокова в „Бледном огне“,
помнишь?» Скорее умру,
чем признаюсь, что нечего мне
вспомнить. И мямлю: «Ну да.
На английском? А что за строка?»
Лучше б сгореть от стыда
мне в огне этом! «Ладно, пока,
други». И смотрим втроём,
как в плаще ты идешь через двор.
…Всех нас в отчёте своем
упомянет настырный филёр,
тот, что с обувки сырой
соскоблив непросохшую грязь,
вражий припишет настрой,
а еще — с диссидентами связь
мне, размышляющей лишь
об одном (кто бы в чём ни винил):
всё же — в четверг позвонишь
или в пятницу? Не позвонил.
Куллэ Виктор. Подступает вода