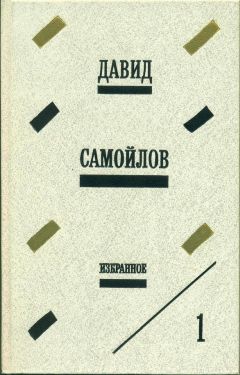И в то же время параллель литературная. Не Пастернак ли: «Провальсировать к славе, шутя, полушалок // Закусивши, как муку...»?
Как будто классический текст проступает под собственным, поверх него написанным. Палимпсест — это слово однажды встретилось в сборнике у Д. Самойлова в метафорическом значении:
И словно какая-то сила
Возникла. И, как с палимпсеста,
В чертах ее вдруг проступила
Его молодая невеста...
(«Средь шумного бала...»)
То, что было в жизни, в культуре, в истории,— неуничтожимо. Даже невидимое и забытое, оно готово проступить, обозначиться. Наверное, по тактическим соображениям эту мысль было бы разумнее припасти для вывода, отложить для заключения, не обнаруживая главного преждевременно. Но главное — не в установке, не в намерении, а в стихах, отзывающихся у Самойлова припоминанием, узнаванием, когда и все нынешнее, на глазах происходящее, стучится в память.
То в интонации как будто Ахматова:
Здесь великие сны не снятся,
А в ночном сознанье теснятся
Лица полузабытых людей...
(«Здесь великие сны не снятся...»)
То Пастернак, который приходит на память особенно часто. И Д. Самойлов не хочет скрывать родства, напротив, подчеркивает его настолько, что иногда в пору оговориться — по мотивам:
Тебе всегда играть всерьез,
Пусть поневоле
Подбрасывает жизнь вразброс
Любые роли.
Хоть полстранички, хоть без слов,
Хоть в пантомиме —
Играть до сердца, до основ,
Играть во имя.
( «Актрисе»)
Это стихотворение случай особый, исключительный. Прямая стилизация, как будто нарочно подброшенная придирчивому критику с предложением схватить за руку: лови меня, лови. Впрочем, последние слова — почти цитата из другого самойловского стихотворения, имеющего непосредственное отношение к возможному спору:
Лихие, жесткие морозы,
Весь воздух звонок, словно лед.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Но, кажется, напрасно ждет.
Напрасно ждать и дожидаться,
Притерпливаться, ожидать
Того, что звуки повторятся
И отзовутся в нас опять.
Повторов нет! Неповторимы
Ни мы, ни ты, ни я, ни он.
Неповторимы эти зимы И этот легкий, ковкий звон,
И нимб зари округ березы,
Как вкруг апостольской главы...
Читатель ждет уж рифмы «розы»?
Ну что ж, лови ее, лови!..
(«Мороз»)
«Повторов нет!» — таков тезис, опровергаемый стихом. Как много их, повторов, в этих строчках. Пушкин — его нельзя не узнать, он процитирован откровенно и хрестоматийно. Чуть глубже спрятан, но также легко узнаваем в последней строке Тютчев — его стихотворение о радуге, этом символе мгновенной красоты:
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
(«Как неожиданно и ярко...»)
Тютчевым завершается это стихотворение, причем завершается так, что смысл припоминаемой цитаты указывает на изменчивость, неуловимость, а сам факт повтора, в котором заново открывается возможность пережить мгновение, утверждает вечность, непреходящую ценность однажды созданной или однажды пережитой красоты.
Надо сказать, что и начинается стихотворение с полуцитаты в первой же строке: «Лихие, жесткие морозы...» — а не так давно, но раньше, В. Соколовым написано стихотворение: «Сухие, чистые морозы...» Значит, еще не дойдя до слов: «Повторов нет...», Д. Самойлов опроверг себя, повторяя своего современника, но вновь знаменательно — он повторяет поэта, известного своей импрессионистичностью, талантом моментальных переживаний.
Получается, что с первой строки до последней автор сталкивает мгновенное и вечное, повтор и неповторимость. Наверное, не каждый читатель осознанно восстановит для себя ассоциативный ряд этого стихотворения, все его отсылки. Это и необязательно, на это едва ли рассчитывает поэт, который сам, трудно сказать сколь отчетливо, регистрирует в своей памяти каждое совпадение с предшественниками. Важно другое, что ни один внимательный читатель, почувствовавший манеру Д. Самойлова, знающий его отношения с традицией как языком поэзии, не попадается на лукаво подброшенное ему: «Повторов нет!» Есть, все повторим о, хотя и не буквально, а по закону изменчивости неизменного...
Разговор о поэзии Самойлова так или иначе выводит к имени Пушкина, которое подсказано и самим поэтом, числящим себя в «поздней пушкинской плеяде». Пушкинские ассоциации часты, но на них Самойлов не позволяет себе задерживаться именно потому, что он не любит задерживаться на главном и привлекать к нему внимание. Полуцитата, обрывок интонации, намек — они определяют тон, но сами тотчас же растворяются, поглощенные движением стиха.
При том, что в стихах Самойлова так многое отзывается прямо или косвенно, так много имен названо, на память приходит одно имя, кажется, ни разу не упомянутое — Иннокентий Анненский:
Как эти дали хороши!
Залива снежная излука.
Какая холодность души
К тому, что не любовь и мука!
(«Как эти дали хороши!..»)
Полного совпадения нигде нет, но контурный пейзаж, заполняемый не зрительно, а эмоционально, «тоска припоминанья» — это общее. И общее в тоне, который приспособлен к тому, чтобы сочетать высокое и будничное. Слух, равно открытый поэтическому и разговорному слову. Они не заглушают друг друга, связанные взаимной иронией. В их равновесии — особенность и сила поэзии Д. Самойлова. Если иногда в глаза бросается нарочитый поэтический жест или слух режет прозаизм, значит — связь распалась.
Мастерство Самойлова — в умении и очень близко следуя за предшественником-собеседником поддерживать отчетливый диалог с традицией, даже если ему самому в нем принадлежат только реплики. Вот почему нет боязни повторить кого-то, нет боязни подражанья:
Великая дань подражанью!
Нужна путеводная нить!
Но можно ли горла дрожанье
И силу ума сочинить?
(«Стансы»)
Поэт знает, что с ним не все согласятся и ясно различает возможного оппонента:
Ученик (махнув рукой)
Ассоциации, культурный слой...
А я желаю быть самим собой!
(«Учитель и ученик»)
Повод для иронии — столь частая логическая ошибка, содержащаяся в этих словах, как будто одно обязательно отменяет другое, и нельзя быть самим собой, помня о том, что было до тебя. Встречный полемический аргумент, правда, тоже не трудно предугадать: на словах у вас все верно, а на деле живущая литературными воспоминаниями поэзия превращается в игру с однажды придуманными и теперь все усложняющимися правилами. На это, конечно, можно ответить, но как ответить, если сам поэт, дразня противников, раскрывается в споре:
Я сделал вновь поэзию игрой
В своем кругу. Веселой и серьезной
Игрой — вязальной спицею, иглой
Или на окнах росписью морозной...
(«Я сделал вновь поэзию игрой...»)
Слово повторено дважды с категоричностью, оттененной смысловыми паузами. Оно произнесено так, будто в нем поэт и видит исполнение своей литературной роли. Дальше его, правда, посещает сомнение:
Не мало ль этого для ремесла,
Внушенного поэту высшей силой...
(«Я сделал вновь поэзию игрой...»)
И все настаивает на игре.
Поэту легко прощается непоследовательность, от него не требуется объяснений. За ним вслед приходит критик, дело которого скучно и правильно интерпретировать, распутывать противоречия, растолковывать, что сказано и что имелось в виду. Можно и сейчас попытаться построить «защиту» Самойлова, делая акцент на эпитете, на одном из них, утверждая, что главное это серьезность, но все равно слово произнесено и никуда от него не денешься. А ведь хорошо и благополучно говорится у Самойлова в другом стихотворении: «Игра в слова — опасная забава...»
Поскольку это «опасное» значение установлено самим автором, может быть, оставив предубеждение, вдуматься в слово? Ведь пытались, и не раз, вывести происхождение искусства из игры. Пусть преувеличивали близость этих явлений, но связь между ними не была придумана: в искусстве сказалась человеческая склонность к подражанью, к тому, чтобы повторить, проиграть заново, объясняя себе все, что случилось или постоянно случается в жизни одного человека, в истории, в природе и в самом искусстве. Повтор, дарующий возможность пережить еще раз, вернуть ощущение реальности происшедшего и его неповторимости.