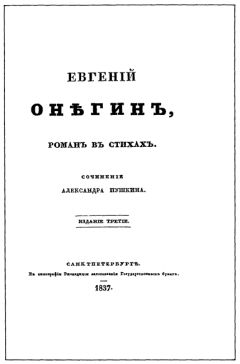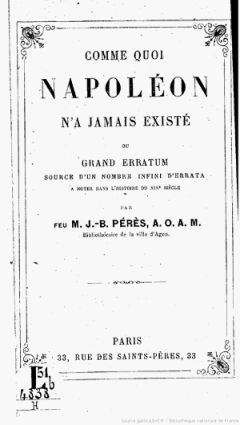XXIX.
Ея прогулки длятся долѣ.
Теперь то холмикъ, то ручей
Остановляютъ поневолѣ
Татьяну прелестью своей.
Она, какъ съ давними друзьями,
Съ своими рощами, лугами
Еще бѣсѣдовать спѣшитъ,
Но лѣто быстрое летитъ,
Настала осень золотая.
Природа трепетна, блѣдна,
Какъ жертва, пышно убрана...
Вотъ сѣверъ, тучи нагоняя,
Дохнулъ, завылъ — и вотъ сама
Идетъ волшебница Зима.
Пришла, разсыпалась; клоками
Повисла на сукахъ дубовъ;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокругъ холмовъ;
Брега съ недвижною рѣкою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснулъ морозъ. И рады мы
Проказамъ матушки Зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдетъ она зиму встрѣчать,
Морозной пылью подышать
И первымъ снѣгомъ съ кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьянѣ страшенъ зимній путь.
Отъѣзда день давно просроченъ,
Проходитъ и послѣдній срокъ.
Осмотрѣнъ, вновь обитъ, упроченъ
Забвенью брошенный возокъ.
Обозъ обычный, три кибитки
Везутъ домашніе пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье въ банкахъ, тюфяки,
Перины, клѣтки съ пѣтухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякаго добра.
И вотъ въ избѣ между слугами
Поднялся шумъ, прощальный плачъ:
Ведутъ на дворъ осмнадцать клячъ,
Въ возокъ боярскій ихъ впрягаютъ,
Готовятъ завтракъ повора,
Горой кибитки нагружаютъ,
Бранятся бабы, кучера.
На клячѣ тощей и косматой
Сидитъ форрейторъ бородатый.
Сбѣжалась челядь у воротъ
Прощаться съ барами. И вотъ
Усѣлись, и возокъ почтенный,
Скользя, ползетъ за ворота.
«Простите, мирныя мѣста!
«Прости, пріютъ уединенный!
«Увижу ль васъ?....» И слезъ ручей
У Тани льется изъ очей.
Когда благому просвѣщенью
Отдвинемъ болѣе границъ,
Современемъ (по расчисленью
Философическихъ таблицъ,
Лѣтъ чрезъ пять сотъ) дороги вѣрно
У насъ измѣнятся безмѣрно:
Шоссе Россію здѣсь и тутъ,
Соединивъ, пересѣкутъ.
Мосты чугунные чрезъ воды
Шагнутъ широкою дугой,
Раздвинемъ горы, подъ водой
Пророемъ дерзостные своды,
И заведетъ крещеный міръ
На каждой станціи трактиръ.
Теперь у насъ дороги плохи42,
Мосты забытые гніютъ,
На станціяхъ клопы да блохи
Заснуть минуты не даютъ;
Трактировъ нѣтъ. Въ избѣ холодной
Высокопарный; но голодной
Для виду прейскурантъ виситъ
И тщетный дразнитъ апетитъ,
Межъ тѣмъ, какъ сельскіе циклопы
Передъ медлительнымъ огнемъ
Россійскимъ лечатъ молоткомъ
Издѣлье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.
За то зимы порой холодной
Ѣзда пріятна и легка.
Какъ стихъ безъ мысли въ пѣснѣ модной —
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, тѣша праздный взоръ,
Въ глазахъ мелькаютъ какъ заборъ.43
Къ несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогоновъ дорогихъ;
Не на почтовыхъ, на своихъ,
И наша дѣва насладилась
Дорожной скукою вполнѣ:
Семь сутокъ ѣхали онѣ.
Но вотъ ужъ близко. Передъ ними
Ужъ бѣлокаменной Москвы,
Какъ жаръ крестами золотыми
Горятъ старинныя главы.
Ахъ, братцы! какъ я былъ доволенъ,
Когда церквей и колоколенъ,
Садовъ, чертоговъ полукругъ
Открылся предо мною вдругъ!
Какъ часто въ горестной разлукѣ,
Въ моей блуждающей судьбѣ,
Москва, я думалъ о тебѣ!
Москва.... какъ много въ этомъ звукѣ
Для сердца Русскаго слилось!
Какъ много въ немъ отозвалось!
Вотъ, окруженъ своей дубравой,
Петровскій за́мокъ. Мрачно онъ
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждалъ Наполеонъ,
Послѣднимъ счастьемъ упоенной,
Москвы колѣнопреклоненной
Съ ключами стараго Кремля:
Нѣтъ, не пошла Москва моя
Къ нему съ повинной головою.
Не праздникъ, не пріемный даръ,
Она готовила пожаръ
Нетерпѣливому герою.
Отселѣ, въ думу погружёнъ,
Глядѣлъ на грозный пламень онъ.
Прощай, свидѣтель падшей славы,
Петровскій за́мокъ. Ну! не стой,
Пошолъ! Уже столпы заставы
Бѣлѣютъ: вотъ ужъ по Тверской
Возокъ несется чрезъ ухабы.
Мелькаютъ мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротахъ.
И стаи галокъ на крестахъ.
Въ сей утомительной прогулкѣ
Проходитъ часъ, другой, и вотъ
У Харитонья въ переулкѣ
Возокъ предъ домомъ у воротъ
Остановился. Къ старой теткѣ,
Четвертый годъ больной въ чахоткѣ,
Онѣ пріѣхали теперь.
Имъ настежь отворяетъ дверь
Въ очкахъ, въ изорванномъ кафтанѣ,
Съ чулкомъ въ рукѣ, сѣдой Калмыкъ.
Встрѣчаетъ ихъ въ гостиной крикъ
Княжны, простертой на диванѣ.
Старушки съ плачемъ обнялись,
И восклицанья полились.
Княжна, mon ange! — Pachette! — Алина!
— Кто бъ могъ подумать? — Какъ давно!
На долго ль? — Милая! Кузина!
Садись — какъ это мудрено!
Ей Богу, сцена изъ романа...
— А это дочь моя, Татьяна. —
Ахъ, Таня! подойди ко мнѣ —
Какъ будто брежу я во снѣ....
Кузина, помнишь Грандисона? —
Какъ, Грандисонъ?... а, Грандисонъ!
Да, помню, помню. Гдѣ же онъ? —
«Въ Москвѣ, живетъ у Симеона;
Меня въ сочельникъ навѣстилъ:
Недавно сына онъ женилъ.
А тотъ... но послѣ все раскажемъ.
Не правда ль? Всей ея роднѣ
Мы Таню завтра же покажемъ.
Жаль, разъѣзжать нѣтъ мочи мнѣ;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены съ дороги;
Пойдемте вмѣстѣ отдохнуть...
Охъ, силы нѣтъ...устала грудь...
Мнѣ тяжела теперь и радость,
Не только грусть...душа моя,
Ужъ никуда не годна я...
Подъ старость жизнь такая гадость...»
И тутъ, совсѣмъ утомлена,
Въ слезахъ раскашлялась она.
Больной и ласки и веселье
Татьяну трогаютъ; но ей
Не хорошо на новосельѣ,
Привыкшей къ горницѣ своей.
Подъ занавѣскою шелковой
Не спится ей въ постелѣ новой,
И ранній звонъ колоколовъ,
Предтеча утреннихъ трудовъ,
Ее съ постели подымаетъ.
Садится Таня у окна.
Рѣдѣетъ сумракъ, но она
Своихъ полей не различаетъ:
Предъ нею незнакомый дворъ,
Конюшня, кухня и заборъ.
И вотъ: по родственнымъ обѣдамъ
Развозятъ Таню каждый день
Представить бабушкамъ и дѣдамъ
Ея разсѣянную лѣнь.
Роднѣ, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встрѣча,
И восклицанья, и хлѣбъ-соль.
«Какъ Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я такъ на руки брала!
А я такъ за уши драла!
А я такъ пряникомъ кормила!»
И хоромъ бабушки твердятъ:
«Какъ наши годы-то летятъ!»
Но въ нихъ не видно перемѣны;
Все въ нихъ на старый образецъ:
У тетушки Княжны Елены
Все тотъ же тюлевый чепецъ;
Все бѣлится Лукерья Львовна,
Все то же лжетъ Любовь Петровна,
Иванъ Петровичъ также глупъ,
Семенъ Петровичъ также скупъ,
У Пелагѣи Николавны
Все тотъ же другъ, мосье Финмушъ,
И тотъ же шпицъ, и тотъ же мужъ;
А онъ, все клуба членъ исправный,
Все также смиренъ, также глухъ,
И также ѣстъ и пьетъ за двухъ.