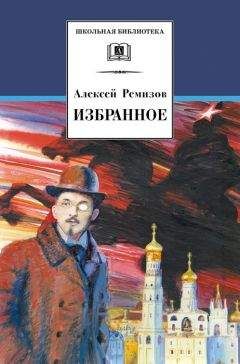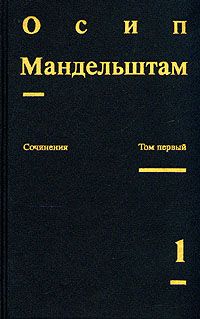В. В. показывал монеты – свое любимое, говорил и о египетской книге – свое заветное.
И о нездоровье – раньше никогда – прихварывать стал: склероз! – но докторе Поггенполе, на которого вся надежда.
Пили чай, хозяйничала Варвара Димитриевна, как всегда, как и в 1905 г., хоть и не то – вот кто изболел за эти годы!
Чай примирил и успокоил.
И не будь нездоровья, В. В. пошел бы посмотреть – в 1905 году куда не ходил! – а теперь куда еще любопытней.
Я рассказал о вечере: устраивается на Острове такой с лозунгом танцевальный:
Будем сеять незасеянную землю!
подростки бесплатно,
дамы – 50 коп.
На минуту игра, как луч, – лукавый глаз.
Сколько б было разговору: семя! – семенная тайна! —
И опять погасло, глубокая забота.
– Мы теперь с тобой не нужны.
И сначала брыкливо, потом горько, а потом покорно:
– Не нужны.
И покорно, и тяжко, и убежденно, словно из-подо дна вышло, последнее – приговор и отпуск.
Варвара Димитриевна тоже очень беспокоится: стал В. В. прихварывать, – все может случиться.
– Доктор говорит…
И как это несоединимо – человек всю свою жизнь о радости жизни – о семени жизни – о жизни —
– Доктор говорит, сосуды могут сразу лопнуть, и конец.
Так и простились.
От Троицы-Сергия получили мы от Розанова Апокалипсис – несколько книжечек с надписью, но уж увидеться нам не пришлось.
* * *
Я долго все поминал:
«не нужен… мы с тобою не нужны».
Как! Розанов не нужен?
Теперь, в этой вскрути жизни, мечтавший всю жизнь о радости жизни?
Розанов или тысяча тысяч вертящихся палочек?
– Человек или стихия?
– Революция или чай пить?
А! безразлично! – стихии безразлично: вскрутит, попадешь – истопчет, сметет, как не было.
Вскруть жизни – революция – – и благослови
ты всю жизнь, все семена жизни, ты один в этой крути без защиты, и тебе крышка.
Так Розанова и прикрыли.
«Розанов, собирающий окурки на улице!»
Что же еще прибавить – – разве для некурящих! – тут все лицо и слепому ясно.
И прикрыли.
– А зачем, – скажут, – повернулся спиной, отверг революцию?
– Отвергать революцию – стихию – как можно говорить, что вот ты отвергаешь грозу, не признаешь землетрясения, пожара или не принимаешь весну, зачатие?
И мне слышится голос отверженного и прикрытого, и этот голос не жалоба, не проклятие, голос человека о своем праве быть человеком:
– Одно хочу я, раз уж такая доля и я застигнут бурей, и я, беззащитный, брошенный среди беспощадной бури, я хочу под гром грозы и гремящие вихри, сам, как вихрь, наперекор —
прилетайте со всех стран!
вертящиеся, крутитесь, взлетайте
жгите, жгитесь
соединяйтесь!
– я свободный – свободный с первой памяти моей, и легок, как птица в лёте, потому что у меня нет ничего и не было никогда, только это вот – еще цела голова! – да слабые руки с крепкими упорными пальцами —
прилетайте!
соединяйтесь!
– я наперекор взвиву теснящихся вещей, с которыми срощен, как утробный, продираясь сквозь живую, бьющуюся живым сердцем толчею жизни, я хочу этой же самой жизни, через все ее тысячекратные громы под хлест и удары в отдар —
прокукурекать петухом
I
Судя по проектам и письменным распоряжениям, можно было бы ждать не такого.
Правда, всю дорогу – от Петербурга до Крут – в наше купе никто не вошел, но ехать под грозой с дубастаньем в окна и криками —
клюк-топ-дробь-мат
Думалось, уж лучше, пожалуй, и без всяких удобств, а попросту, как бывало, в Ш-м классе, или совсем не ворошиться, а сидеть на Острове и ждать погоды.
На крыше – разбегавшиеся по домам солдаты, как клюватые птицы —
мат-дробь-топ-клюк
Когда в первые дни войны мы возвращались из Берлина в Петербург, дорога была такая – я боялся загадывать на завтра и только думал на сейчас, так и теперь, удаляясь за тридевять земель от Петербурга, нет, еще неуверенней —
клюк-топ-дробь-мат
И по пути я уж всеми глазами видел, что война сама собой кончилась и нет такой человеческой силы повернуть назад, одна есть сила – «никакой войны!» – сила нечеловеческая – войнее всякой войны —
революция —
* * *
революция – пробуждение человека
в жестоком дне,
революция – суд человека над человеком,
революция – пожелания человека человеку.
Красна она не судом
– жестокая пора! —
красна озарением
– семенной весенний вихрь! —
пожеланиями человека человеку.
«Взорвать мир!» – «перестроить жизнь!» —
«спасти человечество!»
Никогда так ярко не горела звезда —
мечта человека
о свободном человеческом царстве
на земле,
Россия в семнадцатый год! —
но и никогда и нигде на земле
так жестоко не гремел погром.
* * *
Полем было ехать хорошо, несмотря на ветер.
Птицы по-прежнему поют.
По-прежнему земля зеленеет.
Поле чистое – —
По дороге на селе собрание: агитатор – из пришвинской «тучи» – разъясняет собранию о буржуазии.
– Говорить надо не буржуа, – учит, – а буржуаз. И в другом селе то же, говорит петербургский, тут все петербургские «из тучи», о интеллигенции.
– Интеллигенция, – учит, – это ненормальное явление в природе. Интеллигенция нам не говорит правды. Интеллигенция, если при старом режиме и бывала откровенна, откровенность ее была продажной. Интеллигенция при катастрофическом столкновении классов должна погибнуть.
Едем дальше, третье село – ив третьем селе – в третьем селе солдат:
– Долой царя, да здравствует самодержавие!
За войну отстроили новую каменную церковь.
Старая деревянная с колонками стоит – запустела. И старик священник помер. Новый на его место, но уж в новой церкви, в войну определился, молодой.
– Царская теличка! – ухмыльнулся кучер. – Умора!
Поп был из молодых да ранний, и как пришла революция, очень испугался: первого ведь будут громить попа! Собрал он народ в церковь и все, что слышал: и быль и небыль, и о распутинских чудесах, и о подземном телефоне в Царском Селе – из Берлина прямо в Петербург! – все вывел на чистую воду, а закончить решил Кшесинской – самое громкое имя, недаром в ее дворце Ленин засел. А как сказать: «балерина?» – не поймут. Придумал: скажу, «певичка». И сказал:
«Царская певичка, царь для которой дворец построил!»
И пошло гулять по селу:
– Царская теличка, царь для которой дворец построил!
Проехали лавку – надпись все та же:
* * *
воспрещается лущить семечки
садиться на прилавок если много
людей без дела не надо входить
в лавку за непослушание будут
подвергаться административному
взысканию
* * *
Я встаю в 9 часов. Курю, записываю сны и прибираюсь. В 11–12 часов пью чай с хлебом. После чаю минут на десять выхожу в сад. И опять в комнату и занимаюсь до 3-х. В 3-и обед. После обеда ложусь с книгой и читаю до 5-и. В 5-ь пью чай, и опять с полчаса читаю. Потом пересаживаюсь к окну и занимаюсь до половины восьмого. С половины восьмого до 8-и (не всякий день) гуляю в саду по дорожке от слив до амбара. И домой, зажигаю лампу и занимаюсь до 9-и. В 9-ь пью чай. После чаю читаю газеты, или рисую, или опять пишу до 12-и.
Так все дни – и теперь, и когда случалось раньше попадать летом в деревню.
* * *
Когда я выхожу на улицу, вещи убегают от меня, и подымаются стены, где казалась мне одна ровь и гладь, какие-то лестницы без перил громоздятся навстречу, на которые (и без перил), а изволь лезть! – и мосты, которых я боюсь, и хоть на четвереньках, а должен перейти. И когда все это я проделаю и только что подойти к двери – дверь под носом захлопнется.
Как помню себя, я все делал, чтобы обходить улицу. И первая катастрофа в моей жизни произошла именно потому, что я вышел на улицу.
И это вовсе не уродство, а верное мое чутье к жизни: как помню себя, я всегда что-то выделывал над собой, обрекая себя на добровольное заточение —
с правом выхода, когда хочу.
Затвор стал стеной, моим рогом, моим жалом, моей иглой, моим копытом и моей стихией.
И вовсе не от нелюдимости и отчужденности от мира.
Я люблю все живое в мире – а ведь все живое, что светит, а светит все от крупных звезд и до мельчайшей песчинки и от большого слова до мимолетной мысли:
я люблю солнце, звезды, ветер, землю —
я люблю зарю и дождик, камни, деревья, траву и речь, и смех человека —
и горы, и море, и птиц, и зверей, и человека —
и все, к чему прикоснулась рука человека, – от искусства человека.
Нет, вовсе не потому, как крот, сижу я в норе и, вздрагивая, выхожу на волю.