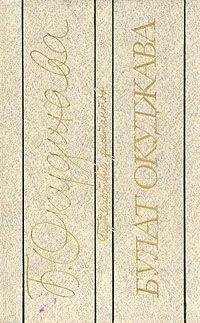«Мне все известно. Я устал всё знать…»
Мне все известно. Я устал всё знать,
и всё предвидеть.
А между тем как запросто опять
меня обидеть.
Как мало значу я без гордых сил,
в костюм зашитый.
Мой опыт мне совсем не накопил
от бед защиты.
Судьба моя, беспомощна сама,
и в ус не дует.
История, сходящая с ума,
со мной флиртует.
Флиртуй, флиртуй, сентябрьская ночь,
кажись забавной.
Невыносимо, но не превозмочь
печали главной.
Она стоит, как стрелочник, за мной —
служака честный —
и отправляет мой состав земной
в тупик небесный.
«Надежды крашеная дверь…»
Надежды крашеная дверь.
Фортуны мягкая походка.
Усталый путник, средь потерь
всегда припрятана находка.
И пусть видна она нечетко,
но ждет тебя она, поверь.
Улыбка женщины одной,
единственной, неповторимой,
соединенною с тобой
суровой ниткою незримой,
от обольщения хранимой
своей загадочной судьбой.
Придут иные времена
и выдумки иного рода,
но будет прежнею она,
как май, надежда и природа,
как жизнь и смерть, и запах меда,
и чашу не испить до дна.
«В больнице медленно течет река часов…»
В больнице медленно течет река часов,
сочится в форточки и ускользает в двери.
По колким волоскам моих седых усов
стекает, растворяясь в атмосфере.
Течет река. Над нею — вечный дым.
Чем исповедаюсь? Куда опять причалю?
Был молодым. Казался молодым.
О молодости думаю с печалью.
В больнице медленно течет поток времен,
так медленно, что мнится беспредельным.
Его волной доставленный урон
не выглядит ни скорбным, ни смертельным.
На новый лад судьбу не перешить.
Самодовольство — горькое блаженство.
Искусство все простить и жажда жить —
недосягаемое совершенство.
«Мне нравится то, что в отдельном…»
Мне нравится то, что в отдельном
фанерном домишке живу.
И то, что недугом смертельным
еще не сражен наяву.
И то, что погодам метельным
легко предаюсь без затей,
и то, что режимом постельным
не брезгаю с юных ногтей, —
Но так, чтобы позже ложиться,
и так, чтобы раньше вставать,
а после обеда свалиться
на жесткое ложе опять.
Пугают меня, что продлится
недолго подобная блажь…
Но жив я, мне сладко лежится —
за это чего не отдашь?
Сперва с аппетитом отличным
съедаю нехитрый обед
и в пику безумцам столичным
ныряю под клетчатый плед,
а после в порыве сердечном,
пока за окошком черно,
меж вечным и меж быстротечным
ищу золотое зерно.
Вот так и живу в Подмосковье,
в заснеженном этом раю,
свое укрепляя здоровье
и душу смиряя свою.
Смешны мне хула и злословье
и сладкие речи смешны,
слышны мне лишь выхлопы крови
да арии птичьи слышны.
Покуда старается гений
закон разгадать мировой,
покуда минувшего тени
плывут над его головой
и редкие вспышки прозрений
теснят его с разных сторон,
мой вечер из неги и лени
небесной рукой сотворен.
И падает, падает наземь
загадочный дождик с небес.
Неистовей он раз за разом,
хоть силы земные в обрез.
И вот уж противится разум,
и даже слабеет рука,
но будничным этим рассказом
я вас развлекаю слегка.
На самом-то деле, представьте,
загадочней всё и страшней,
и голос фортуны некстати,
и черные крылья за ней,
и вместо напрасных проклятий,
смиряя слепой их обвал,
бегу от постыдных объятий
еще не остывших похвал.
Во мгле переделкинской пущи,
в разводах еловых стволов,
чем он торопливей, тем гуще,
поток из загадок и слов.
Пока ж я на волю отпущен,
и слово со мной заодно,
меж прожитым и меж грядущим
ищу золотое зерно.
«Париж для того, чтоб ходить по нему…»
Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.
Он благоуханием так умащен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.
Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
зайти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.
«Пишу роман. Тетрадка в клеточку…»
Пишу роман. Тетрадка в клеточку.
Пишу роман. Страницы рву.
Февраль к стеклу подставил веточку,
чтоб так я жил, пока живу.
Шуршат, шуршат листы тетрадные,
чисты, как аиста крыло,
а я ищу слова нескладные
о том, что было и прошло.
А вам как бы с полета птичьего
мерещится всегда одно —
лишь то, что было возвеличено,
лишь то, что в прах обращено.
Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слезы лью,
что я люблю отчизну бедную,
как маму бедную мою.
«Восемнадцатый век из античности…»
Восемнадцатый век из античности
в назиданье нам, грешным, извлек
культ любви, обаяние личности,
наслаждения сладкий урок.
И различные высокопарности,
щегольства достославный парад…
Не ослабнуть бы от благодарности
перед ликом скуластых наяд.
Но куда-то лета эти минули,
как под жесткой ладонью раба:
невеселую карточку вынули
наше время и наша судьба.
И в лицо — что-то злобное, резкое,
как по мягкому горлу ребром,
проклиная, досадуя, брезгуя
тем, уже бесполезным добром.
Палаши, извлеченные наголо,
и без устали — свой своего…
А глаза милосердного ангела?..
А напрасные крики его?..
Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.
Позднее катанье.
На передней лошади едет император в голубом
кафтане.
Серая кобыла с карими глазами, с челкой вороною.
Красная попона. Крылья за спиною, как перед войною.
Вслед за императором едут генералы, генералы свиты,
славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты.
Следом — дуэлянты, флигель-адъютанты.
Блещут эполеты.
Все они красавцы, все они таланты, все они поэты.
Всё слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые.
Только топот мерный, флейты голос нервный
да надежды злые.
Всё слабее запах очага и дыма, молока и хлеба.
Где-то под ногами да над головами —
лишь земля и небо.
Арбатского романса старинное шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастие;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»…
Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно — век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.
Бывали дни такие — гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменян мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.
Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!
Любовь такая штука: в ней так легко пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться…
Нам всем знакома эта мучительная страсть,
поэтому не стоит повторяться.
Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву взрастите — к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то всё, как видно, и вернется.
Была бы нам удача всегда из первых рук,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг,
и всё при вас, целехонько, как было:
арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»…