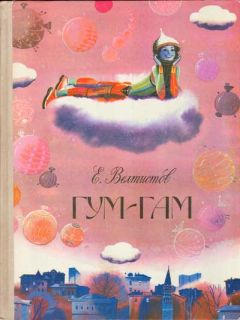(Ода II, 8)
Когда б измена красу губила,
Моя Барина, когда бы трогать
То зубы тушью она любила,
То гладкий ноготь,
Тебе б я верил, но ты божбою
Коварной, дева, неуязвима,
Лишь ярче блещешь, и за тобою
Хвостом пол-Рима.
Недаром клятвой ты поносила
Родимой пепел, и хор безгласный
Светил, и вышних, над кем невластна
Аида сила…
Расцвел улыбкой Киприды пламень
И нимф наивность, и уж не хмуро
Глядит на алый точильный камень
Лицо Амура.
Тебе, Барина, рабов мы ростим,
Но не редеет и старых стая,
Себя лишь тешат, пред новым гостем
Мораль читая.
То мать за сына, то дед за траты
Клянут Барину, а девам сна нет,
Что их утеху на ароматы
Барины манит…
Астерия плачет даром:
Чуть немножко потеплеет –
Из Вифинии с товаром
Гига море прилелеет…
Амалфеи жертва бурной,
В Орик Нотом уловленный,
Ночи он проводит дурно,
И озябший и влюбленный.
Пламя страсти – пламя злое,
А хозяйский раб испытан:
Как горит по гостю Хлоя,
Искушая, всё твердит он.
Мол, коварных мало ль жен-то
Вроде той, что без запрета
Погубить Беллерофонта
Научила мужа Прета,
Той ли, чьи презревши ласки,
Был Пелей на шаг от смерти.
Верьте сказкам иль не верьте –
Все ж на грех наводят сказки…
Но не Гига… Гиг крепится:
Скал Икара он тупее…
Лишь тебе бы не влюбиться
По соседству, в Энипея, –
Кто коня на луговине
Так уздою покоряет?
В желтом Тибре кто картинней
И смелей его ныряет?
Но от плачущей свирели
Всё ж замкнись, как ночь настанет…
Только б очи не смотрели,
Побранит, да не достанет…
Давно ль бойца страшились жены
И славил девы нежный стон?..
И вот уж он, мой заслуженный,
С любовной снастью барбитон.
О левый бок Рожденной в пене
Сложите, отроки, скорей
И факел мой, разивший тени,
И лом, и лук – грозу дверей!
Но ты, о радость Кипра, ты,
В бесснежном славима Мемфисе,
Хоть раз стрекалом с высоты
До Хлои дерзостной коснися.
Над высью горной
Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.
В чаще затих полет…
О подожди!.. Мгновенье –
Тишь и тебя… возьмет.
Я всё простил: простить достало сил,
Ты больше не моя, но я простил.
Он для других, алмазный этот свет,
В твоей душе ни точки светлой нет.
Не возражай! Я был с тобой во сне;
Там ночь росла в сердечной глубине,
И жадный змей все к сердцу припадал…
Ты мучишься… я знаю… я видал…
Мне снилась царевна в затишье лесном,
Безмолвная ночь расстилалась;
И влажным, и бледным царевна лицом
Так нежно ко мне прижималась.
«Пускай не боится твой старый отец:
О троне его не мечтаю,
Не нужен мне царский алмазный венец;
Тебя я люблю и желаю».
«Твоей мне не быть: я бессильная тень, –
С тоской мне она говорила, –
Для ласки минутной, лишь скроется день,
Меня выпускает могила».
«О страсти беседует чинно…»
О страсти беседует чинно
За чаем – их целый синклит:
Эстетиком – каждый мужчина,
И ангелом дама глядит…
Советник скелетоподобный
Душою парит в облаках,
Смешок у советницы злобной
Прикрылся сочувственным «ах!».
Сам пастор мирится с любовью,
Не грубой, конечно, «затем,
Что вредны порывы здоровью»,
Девица лепечет: «Но чем?»
«Для женщины чувство – святыня…
Хотите вы чаю, барон?»
Мечтательно смотрит графиня
На белый баронский пластрон…
Досадно, малютке при этом
Моей говорить не пришлось:
Она изучала с поэтом
Довольно подробно вопрос…
Ночь, и давно спит закоулок;
Вот ее дом – никаких перемен,
Только жилицы не стало, и гулок
Шаг безответный меж каменных стен.
Тише… Там тень… руки ломает,
С неба безумных не сводит очей…
Месяц подкрался и маску снимает.
«Это – не я: ты лжешь, чародей!
Бледный товарищ, зачем обезьянить?
Или со мной и тогда заодно
Сердце себе приходил ты тиранить
Лунною ночью под это окно?»
Счастье деве подобно пугливой:
Не умеет любить и любима,
Прядь откинув со лба торопливо,
Прикоснется губами, и мимо.
А несчастье – вдова и сжимает
Вас в объятиях с долгим лобзаньем,
А больны вы, перчатки снимает
И к постели садится с вязаньем.
– Аннушка, тут гость сейчас сидел,
Все на дверь твою, вздыхая, он глядел:
«Пропадаю, мол, без Аннушки с тоски,
Сердца вашего прошу я и руки».
Аннушка, добра желает мать:
Что-то графской и кареты не слыхать.
А у гостя – что шелков, да что белил,
«А постель я с ними б нашу разделил».
И кого-кого не путал этот май,
Принца, видишь, нам из-за моря подай,
А как осень-то неслышно подошла,
Смотришь: каждая приказчичка нашла.
Аннушка, конфетинка моя!
Побеги-ка ж да скажи: согласна я,
Право, бредни-то пора и позабыть,
Не за графом ведь, за лавочником быть.
Таддэо Цуккеро, художник слабый, раз
Украдкой с полотном пробрался к Аретину
И говорит ему: «Я вам принес картину,
Вы – мастер, говорят, свивать венки из фраз
Для тех, кто платит вам… Немного тускло… да-с,
И краски вылинять успели вполовину.
Но об искусстве я не утруждаю вас,
Вот вам сто талеров, и с этим вас покину».
Подумал Аретин, потом перо берет
И начинает так: «Могу сказать заране –
Мадонна Цуккеро в потомстве не умрет:
Как розов колер губ, а этот небосвод,
А пепел… Полотно виню в одном изъяне:
На нем нет золота – оно в моем кармане».
Остов от черешни я, назябся ж я зимой,
Инею-то, снегу-то на ветках, Боже мой!
А едва заслышал я твой шаг сквозь забытье,
В воздухе дыхание почувствовал твое,
Весь я точно к Троице разубрался в листы,
Замерцали белые меж листьями цветы.
Было утро снежного и сиверкого дня,
Но когда ты ласково взглянула на меня,
Чудо совершилося – желания зажглись
И на ветках красные черешни налились.
Каждая черешенка так и горит, любя,
Каждая шепнула бы: «Я только для тебя,
Все же мы, любимая, на ласковый твой свет
Сердца благодарного мы – ласковый ответ».
Но со смехом в поле ты, к подругам ты ушла,
И, дрожа, увидел я, как набегала мгла,
Как плоды срывалися, как цвет мой опадал,
Никогда я, кажется, сильнее не страдал,
Но зато не холоден мне больше зимний день.
Если в сетке снежной я твою завижу тень.
А когда б в глаза твои взглянуть мне хоть во сне,
Пусть опять и чудо мне, пусть и мука мне.
Красу твою я проклинаю:
Покоя я больше не знаю,
Нет сердцу отрады тепла.
Чем дети мои виноваты?
Кольцо и червонцы взяла ты,
Что знал я, чем был я, взяла,
Я вынес ужасную пытку,
Но губ к роковому напитку,
Клянусь, не приближу я вновь.
С детьми помолюсь я сегодня:
Слова их до Бога доходней,
Целительней сердцу любовь.
Дня нет уж… За крыльями Ночи
Прозрачная стелется мгла,
Как легкие перья кружатся
Воздушной стезею орла.
Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки,
И сердце не может бороться
С волной набежавшей тоски,
С волною тоски и желанья,
Пусть даже она – не печаль,
Но дальше, чем дождь от тумана,
Тоска от печали едва ль.
Стихов бы теперь понаивней,
Помягче, поглубже огня,
Чтоб эту тоску убаюкать
И думы ушедшего дня,
Не тех грандиозных поэтов,
Носителей громких имен,
Чьи стоны звучат еще эхом
В немых коридорах Времен.
Подобные трубным призывам,
Как парус седой кораблю,
Они наполняют нас бурей –
А я о покое молю.
Мне надо, чтоб дума поэта
В стихи безудержно лилась,
Как ливни весенние хлынув
Иль жаркие слезы из глаз,
Поэт же и днем за работой,
И ночью в тревожной тиши
Все сердцем бы музыку слышал
Из чутких потемок души…
Биенье тревожное жизни
Смиряется песнью такой,
И сердцу она, как молитва,
Несет благодатный покой.
Но только стихи, дорогая,
Тебе выбирать и читать:
Лишь музыка голоса может
Гармонию строф передать.
Ночь будет певучей и нежной,
А думы, темнившие день,
Бесшумно шатры свои сложат
И в поле растают, как тень.