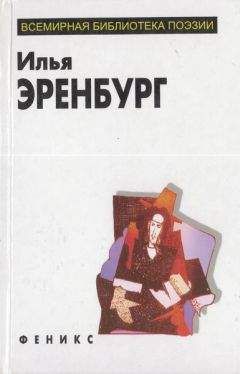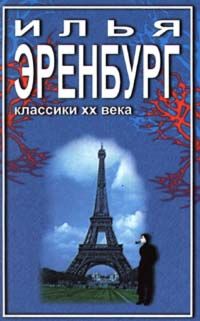Январь 1941
202. «Белесая, как марля, мгла…»
Белесая, как марля, мгла
Скрывает мира очертанье,
И не растрогает стекла
Мое убогое дыханье.
Изобразил на нем мороз,
Чтоб сердцу биться не хотелось,
Корзины вымышленных роз
И пальм былых окаменелость,
Язык безжизненной зимы
И тайны памяти лоскутной.
Так перед смертью видим мы
Знакомый мир, большой и смутный.
Январь 1941
203. «Не раз в те грозные, больные годы…»
Не раз в те грозные, больные годы,
Под шум войны, средь нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара,
И волшебство полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно,
Законы строгие спокойной речи
Пугали мир ущерба и увечий.
Как это просто всё! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно…
Январь 1941
Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, — а он длиннее сплина, —
Не трезубцем моря властелина, —
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин.
Но живые из щелей выходят,
Говорят, встречаясь, о погоде,
Убирают с тротуаров мусор,
Покупают зеркальце и бусы.
Ткут и ткут свои туманы Парки.
Зелены загадочные парки.
И еще длинней печали версты,
И людей еще темней упорство.
Январь 1941
Москва
Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить,
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.
1941 или 1942
206. «Привели и застрелили у Днепра…»
Привели и застрелили у Днепра.
Брат был далеко. Не слышала сестра.
А в Сибири, где уж выпал первый снег,
На заре проснулся бледный человек
И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»
«Киев, Киев! — повторяли провода. —
Вызывает горе, говорит беда».
«Киев, Киев!» — надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки…
1941 или 1942
Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь — не ешь, не пей
И не дыши — одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты — не ешь, не пей,
Как кровь в виске — одно: убей!
1942
208. «Наступали. А мороз был крепкий…»
Наступали. А мороз был крепкий.
Пахло гарью. Дым стоял тяжелый.
И вдали горели, будто щепки,
Старые насиженные села.
Догорай, что было сердцу любо!
Хмурились и шли еще поспешней.
А от прошлого остались трубы
Да на голом дереве скворешня.
Над золою женщина сидела, —
Здесь был дом ее, родной и милый,
Здесь она любила и жалела
И на фронт отсюда проводила.
Теплый пепел. Средь пустого снега
Что она еще припоминала?
И какое счастье напоследок
Руки смутные отогревало?
И хотелось бить и сквернословить,
Перебить — от жалости и злобы.
А вдали как будто теплой кровью
Обливались мертвые сугробы.
1942
Ненависть — в тусклый январский полдень
Лед и сгусток замерзшего солнца.
Лед. Под ним клокочет река.
Рот забит, говорит рука.
Нет теперь ни крыльца, ни дыма,
Ни тепла от плеча любимой,
Ни калитки, ни лая собак,
Ни тоски. Только лед и враг.
Ненависть — сердца последний холод.
Всё отошло, ушло, раскололось.
Пуля от сердца сердце найдет,
Чуть задымится розовый лед.
1942
210. «Знакомые дома не те…»
Знакомые дома не те.
Пустыня затемненных улиц.
Не говори о темноте:
Мы не уснули, мы проснулись.
Избыток света в поздний час
И холод нового познанья,
Как будто третий, вещий глаз
Глядит на рухнувшие зданья.
Нет, ненависть не слепота —
Мы видим мир, и сердцу внове
Земли родимой красота
Средь горя, мусора и крови.
1942
211. «Они накинулись, неистовы…»
Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя,
И есть душа — она всё вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.
1942
212. «Настанет день, скажи — неумолимо…»
Настанет день, скажи — неумолимо,
Когда, закончив ратные труды,
По улицам сраженного Берлина
Пройдут бойцов суровые ряды.
От злобы побежденных или лести
Своим значением ограждены,
Они ни шуткой, ни любимой песней
Не разрядят нависшей тишины.
Взглянув на эти улицы чужие,
На мишуру фасадов и оград,
Один припомнит омраченный Киев,
Другой — неукротимый Ленинград.
Нет, не забыть того, что было раньше.
И сердце скажет каждому: молчи!
Опустит руки строгий барабанщик,
И меди не коснутся трубачи.
Как тихо будет в их разбойном мире!
И только, прошлой кровью тяжелы,
Не перестанут каменных валькирий
Когтить кривые прусские орлы.
1942
Скажи мне, приятель, мы склянки прослушали?
Мы вахту проспали? Приятель, проснись!
А рыбы глядят, как всегда равнодушные,
И рыбы не знают, что значит «проснись».
Я помню в Тулоне высокое зарево,
Как нас захлестнула большая волна.
Скажи мне скорее: где наши товарищи?
Я слезы глотаю, а соль солона.
Куда мы ушли? И хватило ли топлива?
Чужие солдаты на борт не взошли.
Любимая Франция, нами потоплены
Большие, живые твои корабли.
В Бретани — старушка. Что с матерью станется?
Глаза дорогие проплачет она.
Скажи мне, где наша любимая Франция?
Какая ее захлестнула волна?
Но вот средь густого тумана, как в саване,
Со дна подымаются все корабли.
Идем мы, приятель, в последнее плаванье,
Идем за щепоткой французской земли.
Вот пена взлетает веселыми хлопьями,
Огонь орудийный врезается в ночь,
И, голос услышав эскадры потопленной,
Чужие солдаты кидаются прочь.
А девушки нам улыбаются с берега,
И сколько цветов, не смогу я сказать.
Ты знаешь, приятель, мне как-то не верится,
Что я расцелую родимую мать.
Скажу ей: три года я плавал на «Страсбурге»,
Там много осталось хороших ребят.
А рыбы вздыхают кровавыми жабрами.
И рыбы на нас равнодушно глядят.
1942