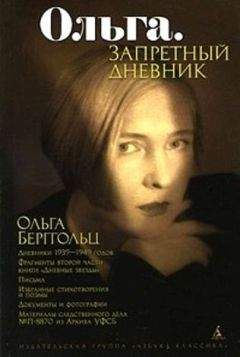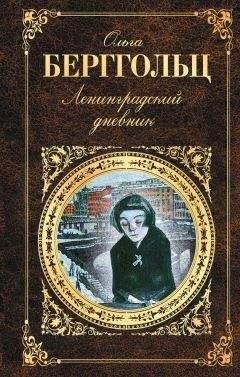Он может возразить: «А ты? А осень? А теперешняя тоска?» Мне нечего ответить. Я понимаю. Но НЕ ПРИНИМАЮ этого. Дело не в том, что он любил меня, как Николай, — так никто никогда не сумеет. Но хотя бы в том же ключе…
А, зря все это. Можно ли жить с людьми по нормам Кольки? Он несколько раз был в комнате, он чувствует, что я ушла в раковину, а мне невозможно сделать нейтральный и ласковый вид…
Ну, ничего. Вздремну сейчас, м. б., разойдусь. Но — молчать, молчать, боже упаси причинить ему стыд и боль… М. б., — обойдется. М. б., забудет ее.
27/V-42
Ну, что ж — разошлось… Сегодня уже только саднит, но не больше.
(Стрельба. Кажется, работают наши береговые, а м. б., немец кладет снаряды не по нашему району. Если береговые, вернее, корабли, то сейчас он станет отвечать. О, морока проклятая!)
Я ничего не сказала Юрке, хотя не удержалась от намека. Нет, он, конечно, любит меня. Надо было видеть вчера и сегодня утром потухшие его, печальные глаза. У меня сердце поворачивалось, но злость была сильнее, не могла себя одолеть и приласкать его. А сегодня с половины дня как-то само отошло.
Была в Московском районе сегодня. Очень польстило, что они не сняли меня с учета, хотят, чтоб я осталась там, в районе, работала над историей района за год войны, на «Электросиле» и т. д. Завод перебрался обратно, восстанавливают цеха, кое-какие цеха начинают работать. Забавно, что еще до «Эл-силы», от ветки — начинается фронт, стоит первая застава. Что ж, я очень рада.
Ездить туда, конечно, мало приятного — каждодневный обстрел (вот и сегодня тоже, пока была в райкоме), часто шрапнельный, но я теперь почти не испытываю этого омерзительного, не зависящего от ума, животного страха, какой иногда нападал раньше. И это во сто раз лучше, чем в Союзе, — это ж курам на смех, тамошняя партийная организация из трех человек! А здесь я смогу принести реальную пользу людям — меня там знают и уважают.
Господи, да ведь я, кажется, в самом деле стала популярным человеком — персонально приглашают на выступления, вот завтра — сразу два, потом 1 числа на антифашистский женский митинг в Куйбышевском райкоме.
Но пора и честь знать. Сейчас в Ленинграде неудобно выступать даже с «Февральским дневником» — уже не та обстановка. Еще умирают в домах, где с зимы держится холод и тьма (окна-то забиты), но общий тонус выше, и жажда жизни говорит все громче, нет того чувства всеобщей обреченности, как в феврале.
Писать, писать.
29/V-42
О, какая весна.
Теплый, теплый, благодатный день и воздух, где-то играет радио (рояль), пахнет листьями, нежная зелень одевает деревья, из окна моего среди розовых, продырявленных крыш видны зеленые клубы деревьев, — а Коли нет.
Не слышно ни стрельбы, ни зениток. Мгновение мира.
А Коли нет.
Я умру в первый день окончания войны, в первый день мира, потому что его не будет и в этот день, и это будет означать, что он уже никогда не придет.
Мне страшно думать об этом дне.
Мне кажется, что я умру, хотя я знаю, что не покончу с собой, — снова, как сразу после Колиной смерти, не хватит сил.
Что мне делать? Коля всюду, каждую минуту, неотступно со мною. Даже в сладчайшие и страшные минуты с Юрой я каждый раз непроизвольно едва-едва не восклицаю — «Коля, Коля», потому что и само наслаждение связано с ним.
Я не хочу забвения. Но так долго не проживешь. Что-то лопнет внутри, как чрезмерно натянутая струна.
Тем более что я действительно люблю Юру. Я люблю его все больше, все серьезней. Сейчас мне было бы очень трудно без его любви. Она — настоящая, радостная, трепетная. Меня иногда дрожь охватывает — господи, кому он ее доверяет, полупаралитику, человеку, не сумевшему сберечь самое драгоценное, что у него было.
Я, я отпустила Колю!
За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать.
Как я ненавижу плакучие древние срубы![142]
О, как болит сердце, пронзительно, нестерпимо.
Весна, и смертная тоска о Коле, и трепетная любовь к Юрке, и сознание вины перед ними обоими — и одиночество, одиночество…
Попробую писать стихи.
Сегодня обязательно надо написать «Ленинград — фронт». Это как раз то, что сейчас людям нужно, тем более что говорят — немцы готовятся к новому натиску на город.
31/V-42
Вчера было совещание писателей армии, города и флота.
Объективно — грандиозно. В блокированном городе художники собираются, как бойцы, обсудить свой опыт, наметить дальнейшие пути борьбы славнейшим людским оружием — словом.
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города[143].
А субъективно — плохо прошло. Неделовито, неподъемно. Эти тупые «руководители» — Маханов, Фомиченко[144], — чем они могут зажечь? Да и личный писательский состав — в основном — сер и лениво-мыслящ.
Я тоже выступала плохо, почти без подъема, потому что в середине совещания совершенно очевидна сделалась его никчемность. Я вообще не люблю этого организованного лицемерия, хотя на этот раз его было значительно меньше, чем в <неразб.> время.
Меня много хвалили — хвалил Тихонов в докладе, дважды Фадеев в своем выступлении, Вера Кетлинская[145] в докладе, Юрка, выступая.
Мне же неудобно до крайности: сколько времени вожусь с «Ленинград — фронт» — и одна трепотня, а работа ни с места, а другое, насущнейшее — ждет. Трепло я, и всё. И стихи пишу какие-то «вумные», холодные, взяла тон непомерно высокий, — проще, проще, проще надо, ближе к сердцу каждого.
Нет, сегодня хоть спать не буду, а выступление закончу, а то и так уже перестаивает. Сейчас поем — и за дело.
Слишком много сил уходит на личную жизнь. Появились систематические головные боли — это от непрерывного недосыпания, — грызем с Юркой друг друга еженощно.
Он любит меня — это факт. Я уже вхожу в его любовь, как в свою комнату.
И все же я сказала ему все с телеграммой. Он долго рассказывал мне обо всей истории с Ириной, — как это все дико, — и его «разочарование» в женщинах, и его, как он говорит, «суки-сынский» период в обращении с ними. Видимо, он в значительной мере все это только облекает в такие теоретические декорации. Чем-то ото всего этого веет чрезмерно извечным, очень далекая проблематика, типа начала века. Гм… оказывается, и в наше время это имеет место.
Сегодня облачное небо, видимо, будет ВТ. Целый день отдаленная воркотня орудий, около четырех — очередной обстрел, били по нашему району.
Третьего дня в час ночи была дикая зенитная пальба, налет, на Выборгской бомбы, — оказывается, со стороны Карельского было наступление.
Упорно говорят, что немцы готовятся к страшнейшему натиску на город.
3/VI-42
Третьего дня у меня была Галка[146]. Милый мой, верный, прекрасный друг. Как я рада ей была, говорили до 10 часов утра, поплакали, пели. Рассказывала ей о Колиной смерти, почти спокойно, т. к. когда говорю об этом — все кажется, что что-то выдумываю, что это — неправда, недоразумение.
А Юра прочел мой дневник, говорит, что будто бы только от 1/VI, и было объяснение. А-ах, господи, как это все мучительно. Я понимаю, что ему тяжело оттого, что я тоскую о Коле, я бы, наверное, просто не смогла жить с ним, если б у него было так, как у меня, но что же я могу поделать?!
Его борьба с Колиной памятью томит и мучит меня еще потому, что книгу стихов, самую лучшую, самую мою, которая должна быть, — я обязательно хочу посвятить Колиной памяти. Я буду еще писать о нем, если б удалось мне выразить это в слове — какой он был добрый, прекрасный НАШ человек… Что ж, Юрка будет страдать из-за этого, — ведь не хочу я причинять ему боли и не могу не помнить Колю всем сердцем.
Но вчера был удивительный вечер: Юрка купил по дороге большой пучок березовых веток. Мы принесли их, поставили в комнате, а окно было открыто настежь, видно было тихое, могучее небо, прохладный ветер веял в окно, в городе было очень тихо — и так пахло березой, так пахло, что вся жизнь, самые счастливые дни ее ожили во мне и — в чувстве — шли через душу счастливо, страстно, ликующе. Вечера, сырые и пахучие, в Глушино, в детстве; наш самый первый вечер с Колей на Островах, где он первый раз поцеловал меня — молодой, красивый, — а я была в вышитой русской рубашке, — там тоже пахло березой, так же, как вчера. И я жила той неясной, томительной отроческой тоской глушинских вечеров, и ясной, слепящей радостью вечера на Островах, и теперешним вечером — этой минутой тишины и радости, когда около лежал красивый, любящий мой теперешний муж, и я ощущала всем существом, что это счастье — что он лежит сейчас около меня и любит меня, и я люблю его, и тихо, и пахнет, пахнет, пахнет свежей березой. Все это сливалось в одно, без боли, вернее, со счастливой болью — все это было счастье, то есть жизнь, все это было неистребимо, прекрасно и едино. Если б мне удалось выразить это, наверное, я написала бы гениальное произведение. Но это невыразимо, это, наверное, тайна, которую нельзя выразить. Так ясно было душе, что нет времени, нет горя, что жизнь — и есть счастье, что высший мой день — сегодняшний, вообще — каждый день жизни — и есть высший ее день; но все же, может быть, высший день именно был вчерашний вечер, высшая жизнь — теперь, потому что у меня уже так много накопилось счастья — опыта жизни, потому что у меня уже ЕСТЬ ЧЕМ ЖИТЬ — и детством, и сияющей любовью с Колей, и сегодняшней любовью, и предчувствием, основанным на опыте, — что счастье будет. И это ощущение слиянности, единства, независимости от времени, это ощущение счастливого напоминания — это есть зрелость, лучшая пора человеческой жизни.