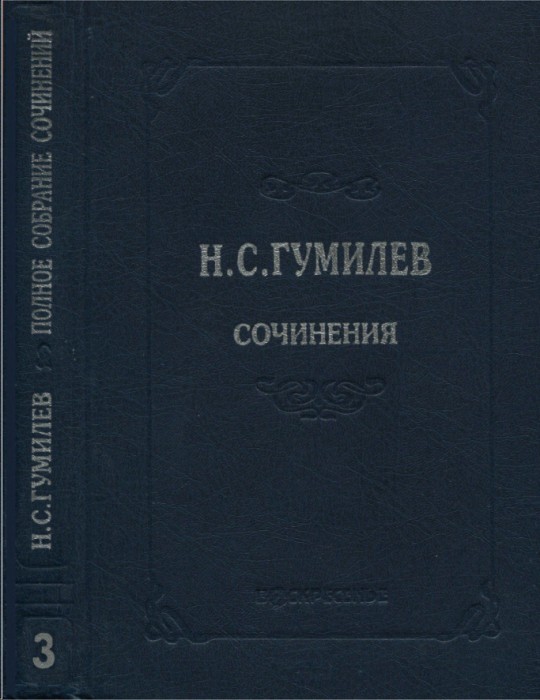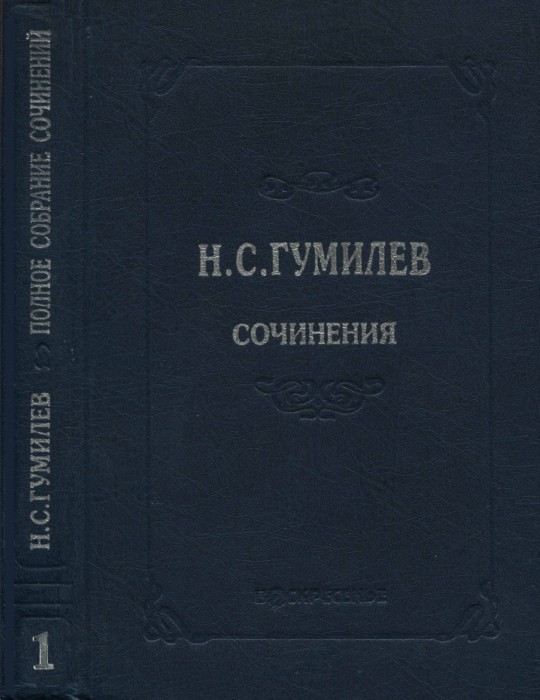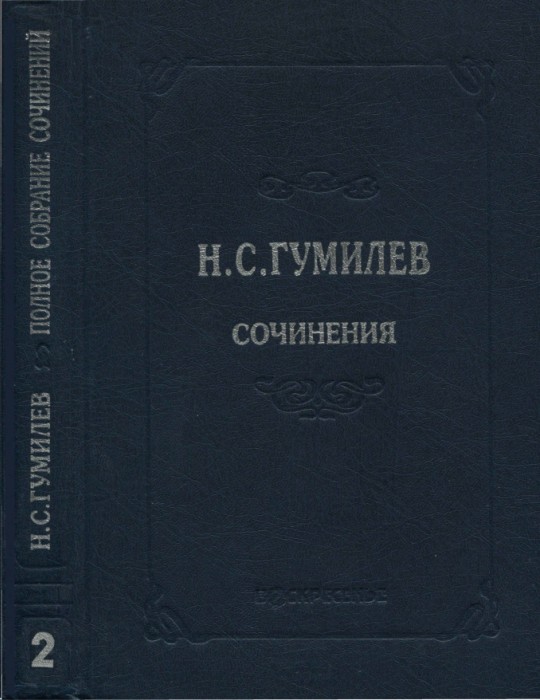Смертной скорбью истомила... ты
Рассказала о своей печали,
Подарила белую сирень,
И за то стихи мои звучали,
Пели о тебе и ночь и день.
Пусть же сердце бьется, словно птица,
Пусть уж смерть ко мне нисходит... Ах,
Сохрани меня, моя царица,
В ослепительных таких цепях.
Как тихо стало в природе,
Вся — зренье она, вся — слух,
К последней страшной свободе
Склонился уже наш дух.
Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,
И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов.
И будут, как встарь, поэты
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им мете.
Тогда я воскликну: «Где же
Ты, созданная из огня?
Ты видишь, взоры всё те же,
Всё та же песнь у меня.
Делюсь я с тобою властью,
Слуга твоей красоты,
За то, что полное счастье,
Последнее счастье — ты!»
Неизгладимый, нет, в моей судьбе
Твой детский рот и смелый взор девический,
Вот почему, мечтая о тебе,
Я говорю и думаю ритмически.
Я чувствую огромные моря,
Колеблемые лунным притяженьем,
И сонмы звезд, что движутся, горя,
От века предназначенным движеньем.
О, если б ты всегда была со мной,
Улыбчиво-благая, настоящая,
На звезды я бы мог ступить ногой
И солнце б целовал в уста горящие.
Восток и нежный, и блестящий
В себе открыла Гончарова,
Величье жизни настоящей
У Ларионова сурово.
В себе открыла Гончарова
Павлиньих красок бред и пенье,
У Ларионова сурово
Железного огня круженье.
Павлиньих красок бред и пенье
От Индии до Византии,
Железного огня круженье —
Вой покоряемой стихии.
От Индии до Византии
Кто дремлет, если не Россия?
Вой покоряемой стихии —
Не обновленная ль стихия?
Кто дремлет, если не Россия?
Кто видит сон Христа и Будды?
Не обновленная ль стихия —
Снопы лучей и камней груды?
Кто видит сон Христа и Будды,
Тот стал на сказочные тропы.
Снопы лучей и камней груды —
О, как хохочут рудокопы!
Тот встал на сказочные тропы
В персидских, милых миньятюрах.
О, как хохочут рудокопы
Везде, в полях и шахтах хмурых.
В персидских, милых миньятюрах
Величье жизни настоящей.
Везде, в полях и шахтах хмурых,
Восток и нежный, и блестящий.
Вдали от бранного огня
Вы видите, как я тоскую.
Мне надобно судьбу иную —
Пустите в Персию меня!
Наш комиссариат закрылся,
Я таю, сохну день от дня,
Взгляните, как я истомился, —
Пустите в Персию меня!
На все мои вопросы: «Хуя!» —
Вы отвечаете, дразня,
Но я Вас, право, поцелую,
Коль пустят в Персию меня.
Весь двор усыпан был песком,
Цветами редкостными вышит,
За ним сиял высокий дом
Своей эмалевою крышей.
А за стеной из тростника,
Работы тщательной и тонкой,
Шумела Желтая река
И пели лодочники звонко.
Лай-Це ступила на песок,
Обвороженная сияньем,
В лицо ей веял ветерок
Неведомым благоуханьем,
Как будто первый раз на свет
Она взглянула, веял ветер,
Хотя уж целых десять лет
Она жила на этом свете.
И благонравное дитя
Ступало тихо, как во храме,
Совсем неслышно шелестя
Кроваво-красными шелками.
Когда, как будто донесен
Из-под земли, раздался рокот,
Старинный бронзовый дракон
Ворчал на каменных воротах:
«Я пять столетий здесь стою,
А простою еще и десять,
Судьбу тревожную мою
Как следует мне надо взвесить.
Одни и те же на крыльце
Китаечки и китайчонки,
Я помню бабушку Лай-Це,
Когда она была девчонкой.
Одной приснится страшный сон,
Другая влюбится в поэта,
А я, семейный их дракон,
Я должен отвечать за это?»
Его огромные усы
Торчали, тучу разрезая,
Две тоненькие стрекозы
На них сидели, отдыхая.
Он смолк, заслыша тихий зов,
Лай-Це умильные моленья:
«Из персиковых лепестков
Пусть нынче мне дадут варенья!
Пусть в куче розовых камней
Я камень с дырочкой отрою,
И пусть придет ко мне Тен-Вей
Играть до вечера со мною!»
При посторонних не любил
Произносить дракон ни слова,
А в это время подходил
К ним мальчуган большеголовый.
С Лай-Це играл он, их дворцы
Стояли средь одной долины,
И были дружны их отцы,
Ученейшие мандарины.
Дракон немедленно забыт,
Лай-Це помчалась за Тен-Веем,
Туда, где озеро блестит,
Павлины ходят по аллеям,
А в павильонах из стекла,
Кругом обсаженных цветами,
Собачек жирных для стола
Откармливают пирожками.
«Скорей, скорей, — кричал Тен-Вей, —
За садом в подземельи хмуром
Посажен связанный злодей,
За дерзость прозванный Манчжуром.