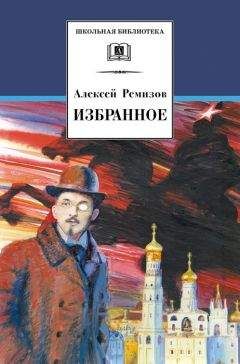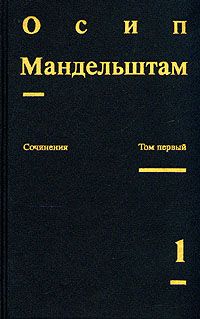Петров-Водкин догнал меня со своим конвойным.
В ГОРОХОВОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
Старичок-«охранник» бритый с зелеными губами – а вот кто, если бы смотрел, сколько бы увидел обреченных человеческих чувств! – или когда такое творится (и эта необходимая лестница и этот неотвратимый «прием»!) и уж не в воле человеческой, а судьба и суд, – и смотреть не полагается?
Не глядя, поставил он нас – Петрова-Водкина одесну́ю, меня ошу́ю – раскрыл книгу и под каким-то стотысячным №-ом стал записывать одновременно и мое и Петрова-Водкина.
и кем был и чем есть и откуда корень и кость и много ль годов живу на белом свете?
Потом отобрал документы, уже прошедшие через Золотаря, и велел подписаться в книге каждому порознь под своим №-ом.
И поддавшись всеобщему чувству – перед судьбой и судом! – я, как когда-то на вступительном экзамене в приготовительный класс под диктовкой – «коровки и лошадки едят траву» – вывел нетвердо, но ясно вместо «Алексей Ремизов» —
Алекей Ремзов
КАМЕРА 35-ая
КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ И САБОТАЖ
– «Алекей Ремзов»?
– Я.
– «Петр Водкин»?
– Тут! – отозвался Козьма Сергеевич.
Все тут были: и Штейнберг в женской шубе, и Лемке с чемоданом, какие только в багаж сдают. И еще незнакомые: одни сидели, других сажать привели —
баба с живым поросенком: шла баба по спекуляции, попала на обыск и угодила в контрреволюцию;
дама с искусственными цветами: «дверью ошиблась» и попала в засаду;
балт-мор: наскандалил чего-то;
красноармеец из «загородительного отряда»: бабу прикончил, загорождая;
человек с огромными белыми буквами на спине – как слон! – беглый из германского плена; да два «финляндца»: перебегали границу – прямо с границы.
Всякий рассказал другому свои происшествия: как и почему попал и попался. Но больше некому рассказывать.
– И долго ли нам еще тут томиться?
И наползают всякие страхи: за окном автомобиль стучит – «пары выпускает» – и я вижу, как прислушивается баба с поросенком и поросенок не пищит.
– Автомобиль пары выпускает, известно: расстреливают!
ОБЕД
Немножко поздновато, ну, когда целый день пост, тут, хоть и в полночь, а все обед будет, не ужин! Поставили миску на стол и ложку:
– Обед.
– Спасибо.
У Штейнберга ложка, а у Лемке в его чемодане целая дюжина, да вынул он одну (по опыту знает, больше не стоит!), да казенная. Сели мы вкруг миски и чередом в три ложки принялись за суп.
И поросенок оживился: хрючит, к лычки скалит, хвостиком поддевает – ну, ему баба кусочек хлеба в пятачок сунула:
– Кушай!
Так всю миску и подчистили.
Унесли пустую миску, убрали ложки.
– И долго ли нам еще тут томиться?
А говорят:
– Подожди – следователь вызовет!
Первым вызвали Лемке.
Взял Лемке свой чемодан, и повели его с чемоданом куда-то в коридор. И пропал Лемке.
Пропал Лемке! – – а за окном автомобиль стучит – «пары выпускает» – —
– И есть тут, сказывали, – шепчет баба с поросенком, – находится надзиратель, петухом кричит: расстреливал и помешался – петухом кричит.
ДОПРОС
Что подумает баба с поросенком, когда придет и ее черед и ее введут в следовательскую к товарищу Лемешеву!
Не следователь – Лемешов свой человек, баба это сразу сообразит по говору с его первых слов! – нет, а эти вот машины: телефонные коммутаторы и аппараты и синий свет от абажура, от чего машины еще стальнее. И из тьмы, куда не попадает этот свет, почудится ей, как прорезывается решетка тюремного окна, а за словами допроса стук автомобиля и из стука петушиный крик расстреливающего надзирателя.
Штейнберг дописывал свои показания, а мы с Петровым-Водкиным начинали.
И как там на «приеме», так и тут один запев:
чем был и что есть и какого кореня и кости и
много ль годов живу на белом свете?
– – —
– – —
Я писал завитущато – и перо хорошее, и сидеть удобно, и свет такой, не темнит и не режет! – ив конце подпись свою вывел:
с голубем, со змеей, с бесконечностью —
с крылатым «з», со змеиным «кси»
с «ѣ» – в Алексее
с «ижицей» – в Ремизове
и с заключительным «твердым знаком»
Штейнберга отправили назад в камеру, а нас с Петровым-Водкиным – в коридор.
Лемешов с бумагами проскочил наверх в «президиум».
ПРЕЗИДИУМ
Что такое президиум? Но этого никто не скажет – что такое президиум! – потому что никто его не видел и ничего не знает. И одно знаем, что там решается наша судьба —
это зубы и пилы и крюки и ножи и стрелы и глазатые уши и зубатые лапы, это нос пальчетовидный и пальцы с зубами – синее, желтое, красное и черное, это – судьба!
Мы сидим в коридоре на чемодане Лемке – сам Лемке в камере – и очень хочется пить и еще такое, как бывает после допроса: как будто кто-то там внутри по внутренностям провел посторонним предметом – «механическое повреждение».
Ни к обыскам, ни к допросам не привыкнешь – я не могу привыкнуть! – и мне всегда чего-то совестно и за себя, и за того свидетеля моих слов, кто меня допрашивал. И это не только в тюрьме, айв жизни – на воле!
– Нельзя ли сорганизовать чаю! – взмолились мы к служителю.
Служитель шмыгал по коридору без всякой видимой причины.
– Это можно! – сказал он и посмотрел на нас добрыми глазами.
И откуда что взялось: кипяток и чай – и такой горячий, губы обожжешь.
Развернул я мой узелок сухариков попробовать – «берег на случай болезни!». И с сухариками стали чай мы пить и пересказывать наши ответы на допросе —
никогда так не говорится, как после скажется, а что сказано, не выскажешь!
И когда мы так в разговорах горячий чай отхлебывали, из другой двери от другого следователя вышла баба с поросенком. И повели ее, несчастную, мимо камеры «контр-революции» в соседнюю – в «спекуляцию».
И видел я, как шла баба – – нет, о себе она уж не думала: один конец!
«А за что ему такое? – поросятине несчастной? в чем его вина, что ему здесь мучиться?»
У КОМЕНДАНТА
Лемке – с чемоданом,
Петров-Водкин – в шубе,
и я с узелком —
терпеливо ждем в комендантской, куда нас привела судьба по суду.
Уж очень время-то неподходящее: пора спать, а тут затребовали бумаги! И комендант долго роется в груде. И отыскав, наконец, под стотысячным №-ом наши документы и удостоверения, выдал их нам на руки.
– Нельзя ли получить какой ночной пропуск, а то выйдем мы на волю, нас сейчас же и сцапают!
– Не сцапают!
И никакого нам пропуска не дали.
А тихо-смирно – ночное время! – провели по лестнице вниз и на улицу – на Гороховую.
Вышли мы на улицу, воздухом-то как с воли дунуло, шагу-то и поддало, и! – пошли.
ПОД МОСТОМ
Шли мы по улице – посередь улицы, где трамвай идет —
Петров-Водкин,
Лемке,
и я, цепляясь за Лемке.
А сугробы намело – глубокие!
Не мостом, идем прямо по Неве под мостом: незаметнее! И видим: по мосту черные гонят каких-то – сцапали! Луна сретенская – так и зеленит. Незаметно идем, да тень-то от нас на пол-Невы.
– – то там промелькнет, то из сугроба выюркнет черный по белому, по лунному – —
Выбрались мы на берег. Тут заколоченный магазин, а сбоку вывеска «чай и кофе» – прижались к «чаю и кофею» —
Да нет никого!
И опять пошли —
Петров-Водкин,
Лемке,
и я, цепляясь за Лемке —
– Тридцать лет с женой под ручку не ходил, а вот с Ремизовым пошел!
IV
РОЖЬ
– Скажите, Яков Гаврилович, где бы мне ржи достать?
– А вам зачем?
– Да у нас вместо хлеба всё овес выдают, надоело; хочу из ржи кашу делать. Вон И. А. Рязановский эту самую кашу, как лакомство, употребляет. Только что тяжеловато, говорит, а каша хорошая.
– На Знаменской попробовать если…
Яков Гаврилович книжный человек, своя лавка – и новые книги и старые, всё, что хотите – но он и в этом деле понимает: Яков Гаврилыч первый присоединился к лозунгу – «без аннексий и контрибуций!»
– Яков Гаврилыч, достаньте, пожалуйста. Я по таким местам не хож: меня везде чего-то боятся. И насчет табаку…
– Этот номер не пройдет, табаку не могу, некурящий, а ржи постараюсь.
Я отложил книги, какие у меня были понаряднее – с книгами приходится расставаться! – отсчитал мне Яков Гаврилыч денег за них тысячи советскими, связал книжки так, чтобы удобнее на санки положить, и мы простились.
– До свидания, Яков Гаврилыч, большое вам спасибо!
– До свидания-с! До будущего воскресенья.
А я ему еще раз вдогонку:
– Ржи-то!
– – —
* * *
В воскресенье опять я отложил книг, какие повиднее. После обеда пришел Яков Гаврилыч, забрал книги, а вместо тысяч – пакет ржи.
И вот, когда я, пересыпав рожь в коробку, свертывал бумагу – всякая бумажонка, это драгоценность большая, и зря бросать не годится! – вижу: какие-то знаки не то эфиопские, не то глаголические, и отложил листки. А вечером пришел П. Е. Щеголев – «старейший князь обезьяний»! – разговорились о чем-то литературном, отошел я к полкам книгу какую-то отыскать, а он, как всегда, «машинально» листки-то эти подозрительные со стола взял – —