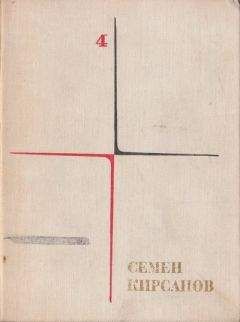НА БЫЛИННЫХ ХОЛМАХ
В Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах
купола —
как славянские головы в древних шеломах
в чернобыль и татарник
погружены.
Эти головы медленно поворачиваются
от забытых курганов
к Весам и Стрельцу.
На гравюрах к поэме «Руслан и Людмила»
я их видел
в издании для детей.
Они думают
снимками фотографическими
и незримые звезды упорно рассматривают,
мыслят
линиями спектральных анализов,
чуют пятна спиральных галактик,
но в сущности —
это головы сказочных богатырей,
в незапамятных сечах
мечами отрубленные
Пушкин их рисовал,
над стихами задумавшись,
на полях своих вещих черновиков.
Но и эти
пером испещренные рукописи
тоже снимки следов
нуклеарных частиц…
Черномор —
это черные клочья туманности,
где в сетях изнывает Людмила звезды.
Там за нею следят
и притворно прислуживают
голубые гиганты
и желтые карлики,
а сверхплотное тело, сидящее в центре,
тащит всю эту челядь к себе.
Это все раскрывается после двенадцати
в сновидениях
спящих богатырей,
когда под заколдованным мирозданием
светят только карманные фонари,
чтобы нимбы вечернего освещения
не мешали
поэтам и наблюдателям
в Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах.
Отцом среди своих планет
и за Землей следя особо —
распространяло Солнце свет
(но чувствовалось, что оно поеживается от озноба).
В мильоны градусов озноб
пятнал сияющее тело
(иногда оно выбрасывало с васильками и кашкою сноп
и беспристрастно вновь блестело).
Отцовски спокойное, оно заходило за Монблан,
но багровело над Камбоджей,
и было ясно, что Земля
озноб испытывает тот же.
И я не мог ни лечь, ни сесть
(по статистическим данным это происходило со всеми).
Знобило. Тридцать семь и шесть.
Что делать? — Всё в одной системе!
СОЛНЦЕ ПЕРЕД СПОКОЙСТВИЕМ
Беспокойное было Солнце,
неспокойное.
Беспокойным таким не помнится
испокон веков.
Вылетали частицы гелия,
ядра стронция…
И чего оно не наделало,
это Солнце!
Прерывалось и глохло радио,
и бессовестно
врали компасы,
лихорадила
нас бессонница.
Гибли яблони, падал скот
от бескормицы.
Беспокойное
в этот год
было Солнце.
Вихри огненно-белых масс
на безвинную Землю гневались.
Загоралась от них и в нас
ненависть.
Мы вставали не с той ноги,
полушалые…
Грипп валил
одно за другим
полушарие.
Соляными столбами Библии
взрывы высились.
Убивали Лумумбу,
гибли
в петлях виселиц.
Ползать начали допотопно
бронеящеры.
Государства менялись нотами
угрожающими.
Все пятнистей вставало Солнце,
тыча вспышками,
окружаясь
кольцами
ко́нцен−
трическими.
Рванью пятен изборожденное
безжалостно —
в телескопах изображение
приближалось к нам.
Плыл над пропастью Шар Земной
в невесомости…
И казалось:
всему виной
в небе Солнце.
Но однажды погожим днем
было выяснено,
что исчезло одно пятно
ненавистное.
Солнце грело косым лучом
тихо, просто,
отболевшее, как лицо
после оспы…
О, милый мир веселых птичьих гнезд!
Их больше нет.
Несчастная планета
попала в дождь из падающих звезд
с диаметром
от мили до полметра.
Шальные звезды
мчатся вкривь и вкось,
шипят и остывают в мути водной.
Как много их, беспутных, пронеслось,
и ни одной
спокойной, путеводной.
— Тревога!.. —
рупор хрипло говорит.
Прохожих толпы прячутся в воротах.
Но где настигнет нас метеорит?
Где нас раздавит ржавый самородок?
Уже так было с Дублином.
За миг
покончено с Афинами и Веной.
В секунду
камень огненный возник
и изменил пейзаж обыкновенный.
Проходит год,
и не проходит дождь.
И общая тревожность стала бытом.
Кто может знать, когда и ты найдешь
себя,
звездой безжалостной убитым?
Железо вылетает из небес.
А люди стекла круглые наденут
и шепчутся:
а может быть, не здесь,
а может, пролетят и не заденут?
Один сидит на башне, нелюдим,
считает блестки мчащегося скопа,
он — астроном.
Он всем необходим,
как врач, с бессонной трубкой телескопа.
Среди все небо исписавших трасс
он вспоминает на седле тренога
от тихий век,
когда пугала нас
наивная воздушная тревога.
В который раз
на снимке видит он
за миллионы километров сверху
кишащий метеорами район,
подобный праздничному фейерверку?
А здесь, —
глаза двух полюсов кругля,
бежит, вздымаясь светом Зодиака,
огромная
бездомная Земля,
добитая камнями,
как собака.
Звезда зажглась
в ночной вселенной,
нет, не зажглась, а родилась.
Звезда, не гасни,
сияй нетленно,
светись на небе ради нас!
Но лишь зажглась,
как уронилась
из мирозданья навсегда…
Скажи на милость,
скажи на милость,
куда девалась ты, звезда?
Не оттого ль
так жарко сердцу,
что ты горишь в моей груди?
Звезда, погасни,
помилосердствуй,
твой жар убьет меня — уйди!
Плывет путем земным
Земля.
Сияет день ее.
У Солнца ж бред:
за ним
ведется наблюдение.
Земля из-за угла
подстерегает диск его.
Схватила в зеркала.
Спустила вниз.
Обыскивает.
Коронограф ведет
трубой по небу зрительной.
Земля себя ведет
неясно, подозрительно.
Зеркальные круги
преследуют.
Исследуют
те ядра,
о каких
планетам знать не следует.
Одной из полусфер
Земля в пятне пошарила.
Ушла.
Следит теперь
другое полушарие.
Закрыть лицо Луной!
Чернеть еще надменнее!
Доволен Шар Земной —
он ожидал затмения.
Посты в горах.
Досье
ведутся.
Линзы глянули.
Фиксируются все
встревоженные гранулы.
Поднявшись в высоту,
захватывают атомы…
Как не взрываться тут?
Как не покрыться пятнами?
Протоны слать!
Трубу
слепить протуберанцами,
волной магнитных бурь
глушить, глушить их рации!
Такой у Солнца бред,
как у людей в бессонницу.
Горячкой лоб нагрет.
Горит.
К закату клонится.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЧАС НА СОЛНЦЕ