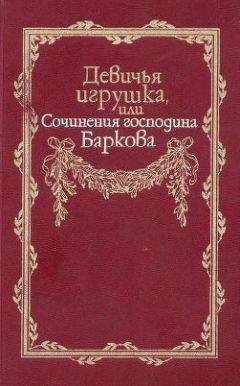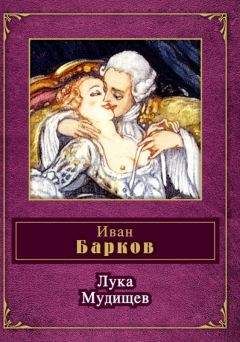Беседа
Вдовицы молодицы
И красные девицы,
Которы побелее,
Которы порезвее,
Которы постатнее,
Которы повольнее,
Все вместе вечерком
Сбираются комком,
И сидючи рядком,
Прядут за гребешком.
Тут набожны пиздищи
Не ходят на игрищи.
Бывают только шлюшки,
Те миленьки игрушки,
Которые добрей
Всех прочих до блядей,
Которы помышляют,
Что люди людей шляют.
А именно вот те, что смолоду еблись,
Что сводничать другим под старость принялись,
Тут девушкам они болтают разны сказки,
Про хуи и пизды старинные прибаски,
Как прежни времена бывали хуи с ногтем,
Молодки умненьки, что мазали их дегтем,
Что были в старину в две четверти в отрубе
И с голову хуи близ плеши на зарубе.
Добрыня-богатырь, что сделал из пизды
Скотину прогонять вороты для езды.
Но как и пособить и лучше можно еться,
Как ежели пизда от хуя уже рвется.
На первую что ночь,
Когда терпеть невмочь,
Иметь надлежит мыло,
Етись чтоб слаще было.
Потом, чтоб не болеть,
Пизде чтоб не стрехтеть,
Как сделашь это дело,
Попарить должно тело
Горячею водой
Иль нашею парной,
И мазать салом губки,
Такие вот погутки,
Такие прибаутки,
Такие вздоры, шутки
Старухи говорят,
У девок как сидят,
Которы их склоняют,
На еблю разжигают
И хитростью своей
Их делают блядей.
Из одних в монастыре два монаха жили,
В нужном случае зимой друг другу служили.
Зимой в монастыре грибов бабы не берут
И не ходят ни за чем, что же делать старцам тут?
Одно средство, чтоб собой друг другу посужаться,
А чем, знает всяк, про то можно догадаться.
Как дождутся весны красны,
Тут уж вовсе безопасны.
Зачнут рость уже сморчки и сладкие апенки,
Девки, бабы тут пойдут с каждой деревенки,
И покудова они апенков наберутся,
Монахи-та их тут досыта наебутся.
Означенным уж здесь повыше молодцам,
А именно друзьям двум ебакам чернецам,
Случилось подозвать знакомые две бабы,
Чтоб побольше всех других восчувствовать забавы.
У одной из тех скаредных бабенок
Грудной был маленькой рабенок,
Да и баню муж: велел топить,
И для того нельзя никак было приттить.
Монахи же, надеясь, хуям готовя жертвы,
Бежали, разъярясь, с восторгом полумертвы.
Но какое вдруг им зрелище предстало!
Одной обеим им еть бабы было мало.
Чья знакомая была, повалил и начал еть,
А другой на то смотря, дрожал и думал умереть.
Но вдруг пришло на ум похвально дело:
Подбежав тотчас он очень смело
И другу рясу на клабук заворотил,
А свой здоровый хуй до муд в него забил.
Оглянувши, тот сказал: отец святы,
Побойся Страшна суда ты.
В ответ он ему, недолго колебаясь,
Сказал, плотнее прижимаясь:
Наказанья за грехи нимало не робею,
А в жопу и пизду равно я еть умею.
У трех монахинь некогда случился спор,
А из того родился и раздор.
И сказывают вправду, и будто бы не враки,
Что дело уж дошло до драки.
Одна другой дала тот час туза,
А третья им обоим царапала глаза,
И все кричали в беспорядке,
Что должно правду защищать равно честной и блядке.
— Так кто может говорить, что хуй не кость?
Два дни тому назад, как еб меня мой гость,
Подъебаючи ему, вспотев, рубашку всю взмочила,
А хуя у него нимало не смягчила.
Другая говорит: — Сестриченка, постой,
Поистине узнала я своею то пиздой,
Что хуй не кость, голубушка, а жила.
Пожалуй рассуди, в чем больше сила.
А третья, на них глядя и слушая, молчала,
Схвативши за пизду, ужасно закричала:
— Что ж ето разве не пизда, а красное окошко?
Мне кажется, вы все вздурилися немножко.
Лет с двадцать уж назад игумен меня еб,
По нем все чернецы, потом уж вдовый поп,
Да вот один лишь слез, успев меня уеть,
И пизда еще мокра, не успела подтереть.
Так вы поверьте мне, что хуй не кость, не жила,
А мясо и что в нем не так велика сила.
Вить жила жестока, а кость всегда тверда,
Так в силах ли была смягчить ее пизда?
Игуменья, пришед, от ссоры развела
И всех троих она их с лаской обняла.
— Скажите, дочки, мне, в чем поссорилися вы?
И что это у вас о хуе за молвы?
Тут наставнице своей они к ногам упали
И слово до слова ей спор весь рассказали.
— Ах! сестры вы мои,
Не ебли вас еще различные хуй.
На первую взглянув, ей стала говорить:
— Которая хуй костью быти мнит,
Любовник твой теперь имеет сколько лет
И как давно тебя он начал, сестра, еть?
Она ей говорит: — Ему нет боле двадцати
И первую меня, как начал он ети.
А та, которая хуй жилою считает:
— Он лет уж сорока, — черничка отвечает.
А третья, будто мясо хуй что говорит,
— Мой в семьдесят пять лет, — игуменье твердит.
Игуменья сказала, качавши головою:
— Я разных уж хуев апробовав пиздою,
Да вот вам мой ответ:
Глупехоньки, мой свет,
Однакож все вы правы,
А первой-то из вас поболее забавы,
Когда он в двадцать лет, так хуй, конечно, кость,
А твой сорокалетний гость,
Хотя ети тебя и есть еще в нем сила,
Да только хуй не кость, а подлинная жила,
А лет в семьдесят уж пять,
Так мясо у него, какова ж вкусу ждать?
Похвальна завсегда бывает в нас догадка,
Но непростительна кака ни есть повадка.
Догадка иногда бывает к счастию рука,
Повадка ж делает из умных дурака,
Чему ж живой пример есть некто муж степенной
И в городе почтенной.
Как дома он бывал, то беспрестанно врал,
Сороменны слова во всяку речь мешал,
А по привычке той однажды в стыд попался
И, в гостях сидючи, по матерну заврался.
Случилось это с ним в одном знакомом доме,
В большом содоме,
Тут,
Где роскоши цветут,
Бывает сбор всегда народу просвещенну,
А сей степенный муж
В том доме был нечуж.
Он с дамою играл в игру незапрещенну,
Враз по пяти рублей играли, не резвясь,
Одна из дам игру велику прикупила
И козырем ступила,
А понта в этот раз случилась
У этого степенника в руках
При малых козырях,
Боярыня играть как будто разучилась,
Что козыри она непрямо все сочла
И бастою тогда последней подошла,
Так тем и проступилась.
— Быть так, — сказала им, — пойду на тотус весь,—
А тот степенник тем столь много веселился
И до того забылся,
Что во весь рост вскричал: — Нет, хуя, понта здесь.
Великой стал тут смех. — Ах, дерзкий, — говорили.
— Куда как не учтив, — все дамы так судили.
Он, извиняясь им, сказал на то в ответ,
Что за проступок сей поставит он лабет.
Детина страшную битку в руках держал,
По улице бежал,
Разинув рот, кричал,
Как добрый мерин, ржал:
— Ах, батюшка, пожар, мой государь, пожар! —
Громовый как попа ударил тут удар,
Он выбежал тотчас с своею попадьею:
— Где что горит, — кричал, — что сделалось с тобою? —
А чтоб огонь залить,
Водою потушить,
Поп тотчас за ведром метался
И принимался,
Но бешеный одно кричать лишь продолжал:
— Ах, батюшка, пожар, мой государь, пожар!
— Пожалуй, свет, постой и что, скажи, пылает? —
Спросил его тут поп. — Не мой ли дом сгорает,
И нет ли где огня
На кровле у меня?
— Ах, нету, батюшка, — кричит ему детина.
— Да что ж и где?
— Не видишь, — отвечал, — горит моя шматина,
А также у твоей у матушки в пизде.
Не можно, батюшка, залить сей жар водою,
Подобно молнии огонь,
Так сжалься ты со мною
И также с попадьею,
Не тронь ты нас, не тронь.
Вели спустить мой хуй ты с маткиной пиздой,
То пустит дождь в пизду елда,
Елду ж обмочит вмиг пизда.
Я хуй свой затушу, а матушка пизду.
— Дурак, ты глуп, как хуй, ебена мать, детина,
Давно б ты мне сказал,—
Тут поп ему вскричал,—
Скорей такой огонь потушит вот дубина.
Гарнизонный солдат и немец