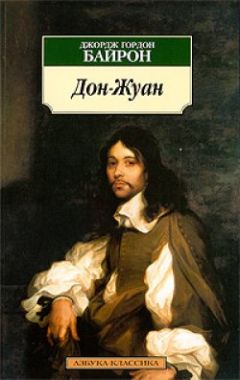Джордж Байрон - Дон-Жуан
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Джордж Байрон - Дон-Жуан. Жанр: Поэзия издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.

Джордж Байрон - Дон-Жуан краткое содержание
Дон-Жуан читать онлайн бесплатно
[157]
Старик вошел в калитку, постоял,
Не узнанный никем, у двери зала;
Под равномерный шорох опахал
Чета счастливцев юных пировала.
И серебро, и жемчуг, и коралл,
И бирюза посуду украшала,
А на столы причудливой резьбы
Златые чаши ставили рабы.
Обед необычайный и обильный
Из сотни блюд различных состоял
(Пред ними б даже самый щепетильный
И тонкий сибарит не устоял!).
Там — суп шафранный, там и хлеб ванильный,
И сладостный шербет благоухал,
Там были поросята, и ягнята,
И виноград, и сочные гранаты!
В хрустальных вазах розовели там
Плоды и очень пряные печенья,
Там кофе подавали всем гостям
В китайских тонких чашках (украшенья
Из тонкой филиграни по краям
Спасали от ожогов), к сожаленью —
Отнюдь не по рецепту англичан, —
Был в этом кофе мускус и шафран.
Цветные ткани стены украшали;
По бархату расшитые шелками,
Цветы на них гирляндами лежали,
И золото широкими лучами
Блистало по бордюру, где сияли
Лазурно-бирюзовыми словами
Отрывки гладью вышитых стихов
Персидских моралистов и певцов.
Повсюду, по обычаю Востока,
Такие изреченья по стенам
О «суете сует» и «воле рока»
В веселый час напоминают нам,
Как Валтасару[158] — грозный глас пророка,
Как черепа — Мемфису[159]: мудрецам
Внимают все, но голос наслажденья
Всегда сильней разумного сужденья!
Раскаяньем охваченный порок,
Поэт унылый, спившийся с досады,
Ударом пораженный старичок,
Просящий у всевышнего пощады,
Красавица в чахотке — вот урок
Превратности судьбы, но думать надо,
Что глупое обжорство не вредней
Вина, любви и буйных кутежей.
На шелковом узорчатом диване
Покоились Гайдэ и Дон-Жуан.
Как величавый трон, на первом плане
Две трети помещенья сей диван
Роскошно занимал; цветные ткани
Пылали, как пунцовый океан,
И солнца диск лучами золотыми
Сиял, шелками вышитый, над ними.
Ковров персидских пестрые цветы
И яркие индийские циновки,
Фарфор и мрамор редкой красоты
Усугубляли роскошь обстановки;
Газели, кошки, карлики, шуты
Пускали в ход лукавые уловки,
Чтоб одобрение сильных заслужить
И лакомый кусочек получить!
Там зеркала огромные сияли
И столики с узором дорогим
Из кости, перламутра и эмали,
Бордюром окаймленные витым;
Они узором редкостным блистали
Из черепахи с золотом литым,
И украшали их весьма картинно
Шербет во льду и редкостные вина.
[160]
Но я займусь моей Гайдэ: она
Носила две джеллики[161] — голубую
И желтую; вздымалась, как волна,
Сорочка, грудь скрывая молодую:
Как в облаках прекрасная луна,
Она фату накинула цветную,
И украшал жемчужин крупных ряд
Пунцово-золотой ее наряд,
На мраморных руках ее блистали
Широкие браслеты без замка,
Столь гибкие, что руки облегали
Свободно и упруго, как шелка,
Расстаться с ними как бы не желали,
Сжимая их любовно и слегка;
Металл чистейший на нежнейшей коже
Казался и прекрасней и дороже.
[162]
Как подобает дочери владык,
Гайдэ на ноги тоже надевала
Браслеты; на кудрях ее густых
Блистали звезды; складки покрывала
Застежка из жемчужин дорогих
На поясе под грудью закрепляла;
Атлас ее шальвар, пурпурно-ал,
Прелестнейшую ножку обвивал.
[163]
Ее волос каштановые волны —
Природный и прелестнейший наряд —
Спускались до земли, как позлащенный
Лучом зари альпийский водопад;
Но локон, сеткой шелковой стесненный,
Порою трепетал, свободе рад,
Когда ее лицо, как опахало,
Дыханье ветра вешнего ласкало.
Она несла с собою жизнь и свет,
Прекрасна, как невинная Психея;
Небесной чистотой счастливых лет
Она цвела, как юная лилея;
Казалось, даже воздух был согрет
Сияньем чудных глаз ее. Пред нею
Восторженно колена преклонить
Кощунством не сочтется, может быть!
Напрасно, по обычаю Востока,
Она свои ресницы начернила:
Горячий блеск пленительного ока
Их бахрома густая не затмила.
Клянусь я небом и звездой пророка,
Напрасно хна восточная покрыла
Ей розовые ногти: и без хны
Они прекрасны были и нежны!
Известно: белизну и нежность кожи
Восточная подчеркивает хна,
Но для Гайдэ, я отмечаю все же,
Она была, бесспорно, не нужна:
На гордый блеск снегов была похожа
Ее груди и шеи белизна.
Шекспир сказал: «Раскрашивать лилею[164]
И золотить червонец я не смею!»
Жуана белый плащ прозрачен был,
И самоцветы сквозь него мерцали,
Как Млечный Путь из маленьких светил,
И золотой узор на черной шали
Горел огнем; чалму его скрепил
Огромный изумруд — и трепетали
Алмазы полумесяца над ним
Сияньем беспокойным и живым.
Их развлекали плясками девицы,
И евнухи, и карлы, и поэт —
Последний мог успехами гордиться
И думать, что гремит на целый свет.
Вельможе не приходится скупиться,
Коль хочет быть как следует воспет:
Поэтам и за лесть и за сатиры
Отлично платят все владыки мира!
Он, вопреки привычке прежних дней,
Бранил былое, восхищаясь новым,
За сытный пудинг со стола царей
Стал антиякобинцем образцовым[165].
Он поступился гордостью своей,
Свободной волей и свободным словом,
И пел султана, раз велел султан, —
Правдив, как Саути, и, как Крэшоу[166], рьян!
Он изменялся, видя измененья,
Охотно, как магнитная игла:
Но чересчур вертлявой, без сомненья,
Его звезда полярная была!
За деньги, а порой за угощенье
Он прославлял «великие дела»
И лгал с такой готовностью и жаром,
Что лавры заслужил себе не даром.
Он был талантлив, если ренегат
Способен быть талантливым: к несчастью,
Все «vates irritabiles»[167] хотят
Признанья и похвал из жажды власти!
Но где же мы, читатель?! Виноват!
Простите, бросил я в разгаре страсти
И третьей песни наших молодых
В роскошном островном жилище их.
Поэт, весьма умелый и занятный,
Любимец многочисленных гостей,
Их забавлял игрой весьма приятной
И мелодичной песнею своей:
Порой они считали непонятной
Причудливую вязь его речей,
Но шумно выражали одобренье, —
Ведь таково общественное мненье!
Набравшись вольнодумнейших идей
В своих блужданьях по различным странам,
Он был среди порядочных людей
Пришельцем досточтимым и желанным.
Он мог, как в ранней юности своей,
Прикрывшись поэтическим туманом,
Почти без риска правду говорить —
И ухитряться все же высшим льстить.
Он знал арабов, франков и татар,
Он видел разных наций недостатки,
Он знал народы, как купцы — товар:
Изъяны их, и нравы, и повадки.
Он был хитер, хотя еще не стар,
И понял, что на лесть все люди падки
И принцип основной уменья жить —
Что «в Риме надо римлянином быть»[168].
Умела петь по вкусу разных стран
Его весьма покладистая муза:
«God save the king! [169]» — он пел для англичан
И «Çа ira![170]» — для пылкого француза.
Он знал и высшей лирики дурман
И не чуждался хладного союза
С разумностью; бывал, как Пиндар[171], он
Талантлив, изворотлив и умен.
Треченто[172] воспевал бы он в Италии,
Для бриттов написал бы песен том,
В Германии (прославила де Сталь[173] ее!)
При Гете б состоял учеником;
Он сочинил бы в знойной Португалии
Баллады о герое молодом,
В Париже — песни по последней моде,
А для Эллады — нечто в этом роде:
«О, светлый край златой весны,
Где Феб родился, где цвели
Искусства мира и войны,
Где песни Сафо небо жгли!
Блестит над Аттикой весна,
Но тьмою жизнь омрачена.
Теосских и хиосских муз[174]
Певцы — любовник и герой —
Бессмертных радостей союз
Бессмертной славили игрой,
Но на прекрасных островах
Забыт ваш глас, молчит ваш прах!
Холмы глядят на Марафон,
А Марафон — в туман морской,
И снится мне прекрасный сон —
Свобода Греции родной.
Могила персов! Здесь врагу
Я покориться не могу!
На гребни саламинских скал[175]
Владыка сумрачно глядел,
И корабли свои считал,
И войску строиться велел;
Но солнце село, день угас, —
И славы Ксеркса пробил час!
Но вот и ты, моя страна,
Безгласно смотришь на закат;
Героев песня не слышна,
Сердца геройские молчат!
Коснусь ли робкою рукой
Бессмертной лиры золотой?
Но на останках славных дел
Я услыхал священный зов,
Я песню вольности запел
В толпе закованных рабов;
Стыдись за греков, и красней,
И плачь о Греции своей!
Но стыдно слезы проливать,
Где предки проливали кровь!
Земля! Верни, верни опять
Великой Спарты храбрецов!
С одною сотой прежних сил
Вернем мы славу Фермопил!
Но ты молчишь — и все молчат!
О нет! Усопших голоса,
Как буря дальняя, звучат
И будят горы и леса:
«Вперед! Вперед! Не бойся тьмы!
Молчат живые, а не мы!»
Вотще взывает к ним война:
Забыта честь и смелый бой,
Лишь кровь самосского вина[176]
Струится в кубок золотой,
И вакханалий дерзкий рев
Глушит призывы мертвецов.
Пиррийский танец есть у вас,
Но Пирровой фаланги[177] нет;
Пустой обычай тешит глаз,
Но умер прадедов завет.
Ужели Кадма[178] письменам
Достаться суждено рабам?
Пускай зальет печали пыл
Вина самосского фиал:
Анакреон его любил,
Когда тирана воспевал.
Но сей тиран был Поликрат[179]
И эллинам по крови брат.
Таким тираном Херсонес
Гордится; славный Мильтиад[180],
Могуч и смел, как Геркулес,
Свободы доблестный солдат:
Он тоже цепи надевал,
Но их народ не разрывал!
Над морем, у сулийских скал,
На диком паргском берегу,
Дорийцев[181] гордых я встречал,
Не покорившихся врагу:
В их жилах Гераклидов[182] кровь
Научит их делам отцов!
Не верьте франкам[183] — шпагу их
Легко продать, легко купить;
Лишь меч родной в руках родных
Отчизну может защитить!
Не верьте франкам: их обман
Опасней силы мусульман!
Налейте ж кубок мне полней,
Я вижу пляску наших дев,
Я вижу черный блеск очей —
Но в сердце слезы, боль и гнев:
Ведь каждой предстоит судьба
Быть скорбной матерью раба!
Я с высоты сунийских скал[184]
Смотрю один в морскую даль:
Я только морю завещал
Мою великую печаль!
Я бросил кубок! Я один,
Страна рабов, — тебе не сын!»
Так пел — вернее, так бы должен петь! —
Наш современный эллин, внук Орфея.
(С Орфеем состязаться надо сметь!
Мы все великих праотцев слабее.)
Поэта чувства могут разогреть
Сердца людей. Но, право, я робею:
Все эти чувства — так устроен свет, —
Как руки маляра, меняют цвет!
Слова весьма вещественны: чернила,
Бессмертия чудесная роса!
Она мильоны мыслей сохранила
И мудрецов почивших голоса
С мильонами живых соединила.
Как странно поступают небеса
С людьми: клочок бумаги малоценной
Переживет поэта непременно!
Исчезнет прах, забудется могила,
Умрет семья, и даже весь народ
В преданьях хронологии унылой
Последнее пристанище найдет;
Но вдруг из-под земли ученый хилый
Остатки манускрипта извлечет —
И строчки возродят померкший разум,
Века забвенья побеждая разом!
«Что слава?» — усмехается софист.
Ничто и Нечто, облако, дыханье!
Известно, что историк-казуист
Ее распределяет по желанью.
Приам воспет Гомером, Хойлем[185] — вист,
Прославленного Мальборо[186] деянья
Забыли бы мы все, когда б о нем
Написан не был Кокса толстый том.
Джон Мильтон — князь поэзии у нас:
Учен, умерен, строг — чего вам боле?
Тяжеловат бывает он подчас,
Но что за дар! И что за сила воли!
А Джонсон[187] сообщает, что не раз
Сего любимца муз стегали в школе,
Что был он скучный муж, хозяин злой
И брошен был хорошенькой женой!
Имели Тит и Цезарь недостатки,
О приключениях Бернса знает мир,
Лорд Бэкон[188] брал, как полагают, взятки,
Стрелял чужих оленей сам Шекспир[189],
И Кромвеля поступки были гадки, —
Любой великой нации кумир
Имеет нежелательные свойства,
Вредящие традициям геройства!
Не каждый же, как Саути, моралист,
Болтавший о своей «Пантисократии»[190],
Или как Вордсворт, что, душою чист,
Стих приправлял мечтой о демократии!
Когда-то Колридж был весьма речист,
Но продал он теперь газетной братии
Свой гордый пыл и выбросил, увы,
Модисток Бата вон из головы.
Их имена теперь являют нам
Ботани-бэй[191] моральной географии;
Из ренегатства с ложью пополам
Слагаются такие биографии.
Том новый Вордсворта — снотворный хлам,
Какого не бывало в типографии,
«Прогулкой» называется и мне,
Ей-богу, омерзителен втройне!
Он сам нарочно мысль загромождает
(Авось его читатель не поймет!),
А Вордсворта друзья напоминают
Поклонников пророчицы Сауткотт[192]:
Их речи никого не поражают —
Их все-таки народ не признает.
Плод их таланта, как видали все вы, —
Не чудо, а водянка старой девы!
Но я грешу обильем отступлений,
А мне пора приняться за рассказ;
Такому водопаду рассуждений
Читатель возмущался уж не раз.
Теряя нить забавных приключений,
Я прихожу в парламентский экстаз, —
Мне в сторону увлечься очень просто,
Хоть я не так велик, как Ариосто!
Longueurs [193]— у нас такого слова нет,
Но, что ценней, есть самое явленье;
Боб Саути, наш эпический поэт
Украсил им бессмертные творенья.
Таких longueurs еще не видел свет!
Я мог бы доказать без затрудненья,
Что эпопеи гордые свои
Построил он на принципах ennui[194].
«Гомер порою спит»[195], — сказал Гораций,
Порою Вордсворт бдит, сказал бы я.
Его «Возница»[196], сын унылых граций,
Блуждает над озерами, друзья,
В тоске неудержимых ламентаций:
Ему нужна какая-то «ладья»[197]!
И, слюни, словно волны, распуская,
Он плавает, отнюдь не утопая.
Пегасу трудно «Воз» такой тащить,
Ему и не взлететь до Аполлона;
Поэту б у Медеи попросить
Хоть одного крылатого дракона!
Но ни за что не хочет походить
На классиков глупец самовлюбленный:
Он бредит о луне, и посему
Воздушный шар годился бы ему.
«Возы», «Возницы», «Фуры»[198]! Что за вздор!
О, Поп и Драйден! До чего дошли мы!
Увы, зачем всплывает этот сор
Из глубины реки невозмутимой?
Ужели глупых Кэдов приговор[199]
Над вами прозвучал неумолимо?
Смеется туповатый Питер Белл[200]
Над тем, кем сотворен Ахитофель[201]!
Но кончен пир, потушены огни,
Танцующие девы удалились,
Замолк поэт, и в розовой тени
На бледном небе звезды засветились,
И юные любовники одни
В глубокое молчанье погрузились.
Ave Maria! Дивно просветлен
Твой тихий час! Тебя достоин он!
Ave Maria! Благодатный миг!
Благословенный край, где я когда-то
Величье совершенное постиг
Прекрасного весеннего заката!
Вечерний звон был благостен и тих,
Земля молчала, таинством объята,
Затихло море, воздух задремал,
Но каждый лист молитвой трепетал.
Ave Maria! — это час любви!
Ave Maria! — это час моленья!
Благословенье неба призови
И сына твоего благоволенье
Для смертных испроси! Глаза твои
Опущены и голубя явленье
Предчувствуют — и светлый образ твой
Мне душу озаряет, как живой.
Придирчивая пресса разгласила,
Что набожности мне недостает;
Но я постиг таинственные силы,
Моя дорога на небо ведет.
Мне служат алтарями все светила,
Земля, и океан, и небосвод —
Везде начало жизни обитает,
Которое творит и растворяет.
О, сумерки на тихом берегу,
В лесу сосновом около Равенны[202],
Где угрожала гневному врагу
Твердыня силы цезарей надменной!
Я в памяти доселе берегу
Преданья Адриатики священной:
Сей древний бор — свидетель славных лет —
Боккаччо был и Драйденом воспет!
Пронзительно цикады стрекотали,
Лесной туман вставал со всех сторон,
Скакали кони, травы трепетали,
И раздавался колокола звон,
И призраки в тумане возникали,
И снился мне Онести странный сон:
Красавиц ужас, гончие собаки
И тени грозных всадников во мраке!
О Геспер[203]! Всем отраду ты несешь —
Голодным ужин и приют усталым,
Ты птенчикам пристанище даешь,
Ты открываешь двери запоздалым,
Ты всех под кровлю мирную зовешь,
Ты учишь всех довольствоваться малым,
Всех сыновей земли под кров родной
Приводишь ты в безмолвный час ночной.
[204]
О сладкий час раздумий и желаний!
В сердцах скитальцев пробуждаешь ты
Заветную печаль воспоминаний,
И образы любимых и мечты;
Когда спокойно тающий в тумане
Вечерний звон плывет из темноты —
Что эта грусть неведомая значит?
Ничто не умерло, но что-то плачет!
[205]
Когда погиб поверженный Нерон[206],
Рычал, ликуя, Рим освобожденный:
«Убит! Убит убийца! Рим спасен!
Воскрешены священные законы!»
Но кто-то, робким сердцем умилен,
На гроб его с печалью затаенной
Принес цветы и этим подтвердил,
Что и Нерона кто-нибудь любил.
[207]
Нерон… но это снова отступленье;
Нерон и всякий родственный ему
Нелепый шут венчанный — отношенья
К герою не имеют моему!
Я собственное порчу сочиненье —
И осрамлюсь по случаю сему!
(Мы в Кембридже смеялись над бедняжками
И звали отстающих «деревяшками».)
Но докучать я не желаю вам
Эпичностью моей — для облегченья
Я перережу песню пополам,
Чтоб не вводить людей во искушенье!
Я знаю, только тонким знатокам
Заметно будет это улучшенье:
Мне Аристотель дал такой совет.
(Читай его «Ποιητική»[208], поэт!)
Песнь четвертая
Похожие книги на "Дон-Жуан", Джордж Байрон
Джордж Байрон читать все книги автора по порядку
Джордж Байрон - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.